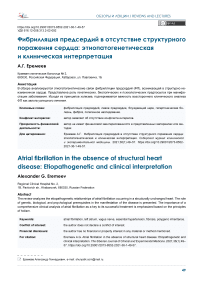Фибрилляция предсердий в отсутствие структурного поражения сердца: этиопатогенетическая и клиническая интерпретация
Автор: Еремеев А.Г.
Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk
Рубрика: Обзоры и лекции
Статья в выпуске: 1 т.36, 2021 года.
Бесплатный доступ
В обзоре анализируются этиопатогенетические связи фибрилляции предсердий (ФП), возникающей в структурно неизмененном сердце. Представлена роль генетических, биологических и психологических предпосылок при манифестации заболевания. Исходя из принципов холизма, подчеркивается важность всестороннего клинического анализа ФП как залога успешного лечения.
Фибрилляция предсердий, левое предсердие, блуждающий нерв, гипертоническая болезнь, фиброз, полигенное наследование
Короткий адрес: https://sciup.org/149136639
IDR: 149136639 | УДК: 616.12-008.313.2-02-092 | DOI: 10.29001/2073-8552-2021-36-1-49-57
Текст обзорной статьи Фибрилляция предсердий в отсутствие структурного поражения сердца: этиопатогенетическая и клиническая интерпретация
ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ / REVIEWS AND LECTURES
Фибрилляция предсердий (ФП) относится к нозологиям, происхождение которых нередко остается неизвестным [1]. Вместе с тем в последние десятилетия отмечается очевидный прогресс в изучении этиопатогенеза ФП. Так, по данным зарубежных исследователей, процент идиопатических случаев данной аритмии неуклонно снижается, оцениваясь разными авторами в диапазоне от 25 до 3% [2]. Верификация причины любого заболевания имеет принципиальное клиническое значение, поскольку воздействие на патогенез и купирование симптомов будет дополнено этиотропным лечением – «золотым» стандартом терапии.
Согласно Российским клиническим рекомендациям «Диагностика и лечение фибрилляции предсердий» (2017), термины «идиопатическая» и «изолированная» ФП нежелательны к использованию [3]. Регулярно пополняемый список нозологий и синдромов, которые причинно связаны с ФП, а также современные достижения генетики делают использование данных терминов, по мнению экспертов, нецелесообразным и даже клинически «вредным», поскольку стигматизация заболевания как «идиопатическое» останавливает диагностический поиск [4]. Тем не менее в рамках предварительного диагноза применение указанных терминов, возможно, следует считать оправданным хотя бы потому, что при рутинном клиническом обследовании (объем которого зачастую ограничен по объективным причинам) этиологическая интерпретация ФП по-прежнему вызывает затруднения.
По общему мнению, к ФП неизвестной этиологии правомочно отнести случаи аритмии, возникающие у лиц не старше 60–65 лет при отсутствии структурного поражения сердца (по данным общедоступных визуализирующих методов исследований) и экстракардиальных заболеваний, которые могли бы провоцировать, например, процессы фиброза в предсердиях [5, 6]. В известной степени спорным остается вопрос о максимально допустимом размере левого предсердия (ЛП), превышение которого не позволяет отнести ФП к разряду идиопатической. При всей условности переднезадний размер ЛП менее 4 см (по данным трансторакального ультразвукового исследования сердца из парастернальной позиции) длительное время считался неким консенсусным ориентиром в такой ситуации [7, 8]. В дальнейшем исследования показали, что расширение ЛП может изолированно происходить в продольном направлении (предсердие в форме эллипса). В настоящее время валидным эхокардиографическим показателем дилатации ЛП является значение его индекса объема, определяемого из апикальной ультразвуковой позиции. У женщин этот параметр в норме не должен превышать 29 мл/м2, у мужчин – 34 мл/м2 [9]. Верификация расширенного ЛП, косвенного признака его анатомического ремоделирования, по определению обязывает врача поставить под сомнение факт «отсутствия структурного поражения сердца».
Одно из фундаментальных правил биомедицины гласит: чем ближе причина заболевания к началу жизни, тем тяжелее будет оно протекать. Применительно к ФП это означает, что генетически обусловленные формы аритмии манифестируют в онтогенезе раньше и отличаются трудной курабельностью. Очевидно, что удельный вес генетического фактора в происхождении ФП у разных пациентов вариативен. Так, моногенная форма ФП представляет собой эндогенное состояние, манифестация ко- торого практически не зависит от внешних воздействий. Напротив, при полигенной ФП риск развития заболевания в онтогенезе коррелирует с интенсивностью воздействия проаритмогенных факторов. В одних случаях как таковые пусковые факторы аритмии не прослеживаются вовсе, в других – они относительно нейтральные и неочевидные (например, артериальная гипертония АГ – 1-й степени), в-третьих – имеют место очевидные триггеры ФП (например, длительная гиперпарасимпатикотония в рамках висцерокардиального синдрома). Задача клинициста заключается в выявлении причинных факторов идиопатической аритмии, которые у конкретного пациента выступают в роли триггера или катализатора.
Цель настоящего обзора: показать, что у многих больных присутствует возможность этиологической интерпретации ФП при структурно неизмененном сердце, или имеется шанс установления клинически ценных коррелятов.
Роль генетического фактора
Редким вариантом пароксизмальной ФП является «семейная» (моногенная) форма заболевания, наследуемая по законам Менделя [10]. Как правило, дебют заболевания приходится на молодой возраст (до 30 лет). Для менделевской формы ФП характерна мутация в генах, кодирующих натриевые и калиевые ионные каналы. По сути, в данном случае мы имеем дело с каналопатией. Механизм инициации ФП аналогичен тому, что происходит при каналопатиях, осложняющихся фибрилляцией желудочков: клинически значимая дисперсия рефрактер-ности в предсердном миокарде приводит к возможности появления ранних постдеполяризаций и запуску «эктопической» электрической волны с угрозой ее распада на «дочерние» волны. У части больных семейной ФП отмечается коморбидность с другими «электрическими» болезнями миокарда, например, синдромом укороченного или удлиненного интервала QT [11]. Подобное клиническое сопряжение существенно облегчает установление причины ФП в силу характерных электрокардиографических проявлений указанных синдромов. Тем не менее обычно менделеевская форма ФП являет собой монозаболевание, причину которого возможно установить только при генотипировании – диагностике, проводимой в крупных научно-исследовательских центрах.
Большой практический интерес представляет концепция полигенной ФП: анализируется полиморфизм в генах, предположительно ответственных за постнатальное развитие профибрилляторных изменений в предсердном миокарде [12]. Изучается влияние генов 4 групп (гены-регуляторы экспрессии ионных каналов, морфогенеза сердца, артериального давления, метаболизма кальция). В настоящее время доказано, что у части пациентов с идиопатической ФП имеет место точечный полиморфизм в генах, ответственных за кардиогенез, а именно PITX2, PRRX1, ZFHX3 [5]. Более детально изучено влияние гена PITX2. Экспрессия С-изоформы PITX2 ассоциирована с дисморфогенезом сердца на молекулярном и гистологическом уровнях, а также влиянием на активность других генов [13]. «Асимметричность» кардиогенеза приводит к усилению анизотропии миокарда, дистопии клеток проводящей системы, нарушению дифференцировки кардиомиоцитов, усилению дисперсии трансмембранного потенциала в мышечных муфтах легочных вен. Повышенная экспрессия С-изоформы предположительно влияет на экспрессию генов NCN4 и KCNQ1, регулирующих работу ионных каналов и гена NPPA, кодирующего натрийуретический пептид [14].
Полигенный тип наследования ФП предполагает высокий риск дебюта заболевания в онтогенезе под влиянием экзогенных воздействий. В реальной клинической практике сложность как раз и заключается в выявлении пусковых факторов аритмии, поскольку они могут иметь транзиторный, неочевидный или скрытый характер. Со стороны в таких случаях развитие ФП выглядит как самопроизвольное (беспричинное). Несмотря на принципиальную важность дальнейшего изучения полигенно-го наследования при ФП, прикладное значение данной концепции не разработано. В настоящий момент верификация полиморфизма в соответствующих генах едва ли способна отдалить манифест или прогрессирование ФП у конкретного больного. Кроме того, сам процесс генотипирования малодоступен по причине дороговизны и крайне малого количества научных центров, способных его выполнить. Если же говорить об «идеальном» кандидате, генотип которого должен быть изучен на предиспозицию к ФП, то, вероятно, таковым является субъект с ранним онтогенетическим дебютом аритмии (до 35 лет) при отсутствии коморбидных заболеваний. Одна из принципиальных задач генотипирования в таких случаях – стратификация с целью выделения группы больных, у которых предполагается более активное использование интервенционного лечения.
Роль фибротических процессов
Известно, что миокардиальный фиброз является мощным фактором риска ФП [15]. Процесс фиброти-ческого ремоделирования предсердий ассоциирован с уменьшением удельного веса функционирующего миокарда и его замещением электрически нейтральной соединительной тканью. Подобная трансформация на гистологическом уровне приводит к интерстициальному растяжению предсердий, а на физиологическом уровне – к возможности поддерживать большое количество волн re-entry, не склонных к самозатуханию, так как движущийся фронт электрической волны будет заставать миокард вышедшим из состояния рефрактерности. В настоящее время фиброз предсердий считается ведущей причиной ФП, в том числе в сердце с нормальными эхокардиографическими параметрами [16].
H. Kottkamp предложил термин «фиброзная предсердная кардиомиопатия» для описания первичной формы биатриальной патологии, характеризующейся фиброзом как субстратом, лежащим в основе предсердных аритмий [17]. При манифестированной ФП степень фиброти-ческой трансформации предсердий прямо коррелирует с общим бременем аритмии, низкой эффективностью консервативной терапии и неудовлетворительными отдаленными результатами радиочастотной аблации [18]. При далеко зашедшем фиброзе запуск ФП может происходить самопроизвольно – без участия экстрасистоличе-ского триггера.
Фиброз предсердий относится к естественным осложнениям лишь в случае его кардиальных причин в рамках синдрома лево- или правожелудочковой недостаточности. Экстракардиальные факторы фиброза предсердий разнообразны, но далеко не всегда очевидны. Например, такие причины фибротических изменений в предсердиях, как сахарный диабет, ожирение и старение, хорошо известны [19]. Взаимосвязь фиброза с хронической обструктивной болезнью легких и хронической болезнью почек постулируется в последние годы. Не всегда уделяется должное внимание такому возможному катализатору фиброза, как синдром ночного апноэ [20], поскольку запуск ФП в период сна принято ошибочно трактовать исключительно в рамках вагусного варианта течения аритмии.
Настоящую клиническую загадку представляют случаи ФП при наличии атриального фибротического процесса в отсутствие очевидных причин для него, включая АГ («фиброзная предсердная кардиомиопатия» по терминологии H. Kottkamp). В этом случае, возможно, следует обратить внимание на психологический статус пациента, поскольку, по выражению немецкого психиатра П. Арндта, «любое заболевание касается человека целиком, ввиду тесного переплетения духовного и физического» [21]. Согласно психосоматическому концепту, конституциональная гипотимия или аутохтонные (эндогенные) персистирующие депрессивные расстройства представляют собой состояние хронического стресса, ассоциируясь с реципрокным дефицитом спонтанных положительных эмоций (восторга, удивления, умиления, симпатии и т. п.). Хронический стресс (негативная аффектация) на гуморальном уровне проявляется избыточным выделением цитокинов и окислительным стрессом [22], которые при исходной предиспозиции (например, полигенном наследовании ФП) могут провоцировать (усиливать) процессы миокардиального фиброза.
Основной гуморальный путь инициации фиброза предсердий – гиперактивация ренин-ангиотензиновой системы [23]. Ключевая роль отводится ангиотензину II, который непосредственно и через стимуляцию гуморальных посредников запускает процесс дезорганизации предсердного миокарда. Потеря функционала предсердной паренхимы происходит за счет перегрузки кардиомиоцитов кальцием, их гипертрофии и последующего нарушения контрактильной способности. Параллельно реализуются фибриногенные эффекты ангиотензина II: пролиферация фибробластов и накопление белков внеклеточного матрикса.
В настоящее время активно изучаются биомаркеры фиброза предсердий – галектин-3 и мозговой натрийуретический пептид. Для фиброза более специфично повышение кровяной концентрации галектина-3, поскольку экспрессия этого белка фибробластами тесно связана с их пролиферацией [24].
Что касается инструментальной диагностики атриального фиброза, то в практическом отношении магнитно-резонансная томография, усиленная гадолинием, не имеет альтернативы. К недостаткам данной процедуры относятся сложность калибровки порога интенсивности сигнала для дифференциации нормальной и фиброзной ткани, анатомическая изменчивость и артефакты визуализации.
Роль вегетативной нервной системы
Вагус-зависимая ФП – патогенетический вариант аритмии, где ключевая роль при ее запуске отводится висцеро-висцеральным рефлексам [25, 26]. Возможность развития изолированной вагусной ФП была показана в классических исследованиях Л.В. Розенштрауха и соавт.: введение собакам в артерию синусового узла ацетилхолина провоцировало экстрасистолический запуск ФП в большинстве случаев [27]. Известно, что парасимпатические волокна негомогенно распределены в предсердиях: их удельный вес выше в ЛП с преимущественной «концентрацией» в области его задней стенки и мышечных муфтах легочных вен [28]. Установлено, что не менее чем у 85% людей электрофизиологические свойства клеток мышечных муфт сопоставимы с таковыми клеток проводящей системы предсердий (способность к автоматии, кальций-зависимая деполяризация, низкий уровень потенциала покоя) [29]. Также было доказано, что внутри самих миокардиальных рукавов (между клетками проксимальной и дистальной части) наблюдается выраженная анизотропия, обусловленная дисперсией трансмембранного потенциала и разной скоростью проведения возбуждения [30]. Таким образом, врожденные особенности строения и электрофизиологических параметров устьев легочных вен являются своеобразным некорригируемым фактором риска ФП. Хроническое повышение вагального тонуса в рамках висцерокардиального синдрома приводит, во-первых, к усилению анизотропии в мышечных муфтах, что повышает вероятность появления эктопии по механизму re-entry и ранней постдеполяризации, во-вторых, к электрическому ремоделированию предсердного миокарда – его гиперполяризации и негомогенному укорочению рефрактерного периода [31].
Встает вопрос об источнике и механизме парасимпатического гипертонуса in vivo , вследствие которого у предсердного миокарда появляется возможность поддерживать ФП. По мнению известного немецкого физиолога Р. Шмидта, большинство афферентной импульсации от полых внутренних органов исходит от механорецепторов, активирующихся при растяжении стенок, напряжении сдвига [32]. «Слабым» местом, где избыточное раздражение вагуса кажется наиболее вероятным, является кардиальный (брюшной) отдел пищевода [33]. Следующие факторы определяют уязвимость блуждающего нерва в данной анатомической области:
-
– кардиальный отдел пищевода проходит через анатомически узкое пространство – пищеводное отверстие диафрагмы;
-
– прочная фиксация пищевода к диафрагме связками обеспечивает его неподвижность; однако в условиях патологии ослабление связочного аппарата делает возможным вертикальные смещения пищевода;
-
– хроническое повышение внутрибрюшного давления (весьма распространенный патофизиологический феномен) изменяет нормальную перистальтику пищеводно-желудочного соединения и способствует формированию недостаточности кардии.
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и гастро-эзофагорефлюксная болезнь (включая эндоскопически негативный рефлюкс-эзофагит) – гастроэнтерологические заболевания, которые могут осложниться ФП [34, 35]. У части пациентов, несмотря на парасимпатический паттерн запуска ФП (развитие пароксизма на фоне синусовой брадикардии, после приема пищи, при переходе в горизонтальное положение, во время ночного сна), патология пищеварительного тракта отсутствует. Тем не менее обоснованное подозрение на наличие проарит-могенного влияния блуждающего нерва на предсердный миокард, вероятно, должно служить поводом для прицельного обследования «верхнего» отдела пищеварительной системы: проведение рентгеноскопии пищевода (с использованием проб, повышающих внутрибрюшное давление) и его РН-метрии [36].
Становление пароксизмальной ФП по вагусному механизму, вероятно, следует рассматривать как далеко зашедший этап анатомического ремоделирования предсердий, которому изначально на субклиническом уровне предшествует процесс их электрического ремоделирования и предсердная экстрасистолическая аритмия.
Функция блуждающего нерва как профибрилляторного триггера предполагает проведение антихолинергических терапевтических мероприятий и там, где это возможно, лечебное воздействие на гастроэнтерологическую патологию. Однако следует помнить о частом варианте естественного течения вагусной ФП: связанный с синусовой брадикардией дебют аритмического синдрома в дальнейшем приобретает характер нейрогенной (психогенной) аритмии [40]. Здесь вероятна следующая модель «закольцовывания» болезни: персистирование вагусного гипертонуса поддерживает клинически значимую дисперсию рефрактерности предсердного миокарда; при ситуационных аффективных напряжениях гормоны стресса, усиливая кальциевую нагрузку на сердце, повышают ав-томатию предсердных эктопических фокусов, что способствует запуску ФП [27, 41]. Очевидно, при вагус-зависимой ФП формирование «психосоматического континуума» приводит к тому, что аритмическая болезнь приобретает более сложное, трудно контролируемое течение.
Изолированный адренергический вариант запуска ФП встречается не часто. Исследования на лабораторных животных показывают [27, 42], что в большинстве случаев аффект-зависимой инициации ФП предшествует вагусный гипертонус (как облигатный катализатор электрического ремоделирования ЛП), или прослеживается одновременный дисбаланс симпатической и парасимпатической нервной системы.
Роль артериальной гипертонии
По мнению М. Шинаса и А.Д. Камма [43], самый большой вклад в развитие ФП в популяции вносит хроническая гемодинамическая перегрузка ЛП при гипертониче- ской болезни (ГБ). Увеличение конечно-диастолического давления в ЛП запускает процесс его фибротического ремоделирования. Собственно к идиопатическому варианту аритмический синдром в таком случае не относится, однако у части больных постулирование ГБ в качестве диагноза, а значит и триггера ФП, сопровождается трудностями. Во-первых, феномен скрытой АГ, по определению являясь малосимптомным, может длительное время не диагностироваться. Во-вторых, среди клиницистов имеет место недооценка высокого нормального артериального давления и/или АГ 1-й степени в качестве императива развития ФП. В-третьих, факт артериальной нормотензии при первичном обращении за медицинской помощью по поводу ФП не исключает наличия стойких гипертензивных реакций в анамнезе. Таким образом, пациент с идиопатической ФП должен быть обязательно обследован на предмет наличия клинически «стертых» форм АГ.
Очевидно, чтобы субклиническая АГ стала причиной ФП, необходима биологическая предиспозиция к аритмии, ведь в реальной практике мы нередко сталкиваемся с пациентами с тяжелыми, трудно контролируемыми формами АГ при отсутствии у них ФП.
Роль психосоматических факторов
Благодаря концептуальным достижениям психосоматической медицины, все чаще объектом ее исследования становится аффективная сфера пациентов с ФП [44]. Клинические наблюдения показывают крайнюю разнородность психотипов таких больных [45], что не позволяет сформулировать «рабочую» гипотезу о поведенческом паттерне как предикторе ФП. Тем не менее общеизвестно, что развитие пароксизмальной ФП зачастую происходит вследствие психоэмоционального напряжения. Отмечается, что внутрипсихическое аккумулирование негативных эмоций (в рамках субдепрессивной реакции на стресс и/или алекситимических черт характера) является фактором риска манифеста и персистирования ФП [46]. На гуморальном уровне хроническая гипотимия способствует усилению катаболических реакций, оксидативно-му стрессу, запуску фибротических процессов.
Важный аспект стрессогенной ФП – возможная хронологическая удаленность (дни/недели) дистресса и его телесного «выплеска». На психосоматическом языке данный феномен называется «симптомом-отдушиной» [47]. Очевидно, подобное течение аритмической болезни, когда пароксизм ФП возникает спустя более или менее длительный промежуток времени после стрессовой ситуации, подразумевает принятие комплексных психотерапевтических и/или психофармакологических превентивных мер.
При наличии биологической предиспозиции дисбаланс вегетативной нервной системы, «стертые» формы АГ и нарушения аффективной сферы, вероятно, следует рассматривать как самые частые клинические факторы, провоцирующие развитие ФП в макроскопически неизмененном сердце.
Роль дисплазии соединительной ткани
Следующим патоморфологическим состоянием, которое теоретически может усиливать дисперсию рефрак-терности предсердного миокарда [48, 49], является дисплазия соединительной ткани (ДСТ).
В большинстве случаев макроскопические аномалии сердца при ДСТ не приводят к нарушению внутрисердеч- ной гемодинамике, а значит, не имеют прямого отношения к развитию ФП. Высокая аритмогенная готовность миокарда на фоне наследственных нарушений развития соединительной ткани объясняется изменением коллоидно-химических процессов в миокарде, имеющим исходно генетически детерминированную межтканевую асимметрию. Дисперсия миокардиального синцития приводит к неравномерному или фрагментированному проведению импульса возбуждения, способствуя, во-первых, асинхронной электрической активации, во-вторых, повышенной эктопической активности за счет смещения максимального диастолического потенциала к пороговому уровню в гетеротопно локализованных Пуркинье-по-добных клетках [50].
У субъектов с ДСТ при манифесте или усилении аритмического синдрома особо подчеркивается катализирующая роль фактора повышенной психической ранимости [52]. Гормоны стресса, увеличивая внутриклеточное депо кальция в миокарде, способствуют нарастанию крутизны спонтанного диастолического потенциала, что в исходно гипополяризованных клетках повышает вероятность достижения деполяризацией порогового уровня.
Роль миокардиального воспаления
В последние десятилетия большое внимание уделяется изучению роли латентного миокардита как этиологического фактора идиопатических аритмий. Периодически появляются публикации, убедительно доказывающие возможность развития ФП при аутоиммунном вирусном поражении предсердного миокарда [53, 54]. Диагностическим скринингом в такой ситуации является определение маркеров активной фазы воспаления в миокарде [55]. Среди лабораторных показателей крови наибольшее диагностическое значение имеет определение титра антител к миокарду; прогностическая ценность положительного результата теста повышается при одновременном увеличении концентрации Неоптерина и С-реактивного белка [56]. Следует отметить, что по наблюдению некоторых авторов [57], аритмический синдром, вызванный миокардиальным воспалением, может редуцироваться посредством своевременно начатой иммуносупрессивной терапии.
Вместе с тем из-за ряда обстоятельств выявляемость аритмической «маски» миокардита значительно уступает ее реальной распространенности. Во-первых, отмечается низкая врачебная настороженность относительно роли миокардита как триггера именно ФП. Во-вторых, разноречивые данные [57] об эффективности этиопа-тогенетической терапии миокардита (высокий процент нереспондеров) не способствуют тому, чтобы верификация данного заболевания считалась клиницистами принципиально важной. В-третьих, во многих стационарах отсутствует возможность проведения высокочувствительных инструментальных методов диагностики миокардита (прежде всего речь идет о магнитно-резонансной томографии и эндомиокардиальной биопсии). В-четвертых, исходя из принципов последовательной диагностики, существует вероятность, что многие случаи миокардита не верифицируются по причине нормальных значений первичного теста – лабораторных параметров аутоиммунного воспаления (как следствие естественного течения заболевания – выздоровления или ремиссии).
Роль эпикардиальной жировой ткани
У пациентов с ФП на фоне структурно неизмененного сердца нередкой клинической находкой является верификация увеличенного объема эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ) [58]. Подчеркивается наличие слабой положительной корреляционной связи между массой тела и объемом эпикардиального жира [59]. Это доказывает возможность независимого «проаритмогенного» влияния ЭЖТ на предсердный миокард. Реализация локальных эффектов ЭЖТ осуществляется через инфильтрацию предсердий продуктами адипоцитов – цитокинами, провоцирующими фибротическое перерождение миокарда [60]. Неизвестной остается причина увеличения объема ЭЖТ. Возможно, что высокое бремя АГ (включая ее клинически стертые формы), усиливая сердечную постнагрузку, способствует аккумулированию основного энергосубстрата миокарда – жирных кислот. Не исключено, что сама ФП в рамках феномена «фибрилляция порождает фибрилляцию», интенсифицируя интрамиокардиальный метаболизм, также может приводить к патологическому накоплению ЭЖТ. Наиболее доступным способом определения толщины ЭЖТ является трансторакальная эхокардиография.
Любопытными оказались результаты исследования, проведенного под руководством проф. С.П. Голицына [1]. Было продемонстрировано, что примерно у 5% больных с идиопатической ФП при чреспищеводной стимуляции сердца индуцируются «неклинические» предсердные тахиаритмии: предсердная тахикардия, трепетание предсердий 1-го типа или узловая атриовентрикулярная тахикардия типа slow-fast. Что важно, катетерная аблация аритмического субстрата выявленных аритмий приводит к «излечиванию» от ФП. Таким образом, у части пациентов облигатным катализирующим фактором «беспричинной» ФП является хорошо изученный феномен предсердного macrore-entry, верификация которого, впрочем, требует проведения провокационного теста. Данное исследование доказывает важность настойчивого поиска причинных связей у больных с идиопатической ФП.
Заключение
ФП – мультифакториальное заболевание, имеющее высокую распространенность. У многих больных стандартное клиническое обследование сердечно-сосудистой системы не позволяет установить ее причинные факторы. Порой единственным инструментальным параметром, выходящим за рамки нормы, является изолированное расширение ЛП. Доказано, что локальный фиброз – базовая причина ФП на гистохимическом уровне. Экстра-кардиальные факторы фиброза предсердий разнообразны, однако наибольшее клиническое значение имеет некомпенсированный сахарный диабет, ожирение, старение и конституциональная гипотимия (или депрессивное расстройство). Каждое из этих состояний ассоциируется с трансформацией метаболизма по типу «оксидативно-го стресса» и гиперактивацией ренин-ангиотензиновой системы, когда внутритканевое накопление провоспали-тельных цитокинов интенсифицирует процессы фиброза. Возможно, что основной непосредственной причиной идиопатической ФП являются субклинические формы АГ (скрытая АГ, высокое нормальное артериальное давление, транзиторные гипертензивные эпизоды), что приводит к повышению диастолического давления в ЛП и его ремоделированию. Принципиально важно иметь генетическую предиспозицию к ФП: этим объясняется ее манифест при прочих равных условиях. Не менее чем у 2/3 людей клетки мышечных муфт легочных вен по электрофизиологическим параметрам схожи с клетками проводящей системы предсердий (способность генерировать потенциал действия). На клиническом уровне это является фактором риска появления предсердной экстрасистолии. При «готовности» субстрата такая экстрасистолия начинает запускать ФП. Полигенный тип наследования ФП («асимметричный кардиогенез») предполагает реализацию врожденного «аритмогенного потенциала» в процессе онтогенеза под влиянием клинических факторов, которые, как правило, не очевидны. Впрочем, чем большее количество проаритмогенных факторов воздействует на предсердный миокард одномоментно (например, ожирение, АГ, висцерокардиальные рефлексы, нарушения аффективной сферы), тем меньшее значение имеет генетическая предиспозиция, и тем более значимой становится роль объективных (экзогенных) причин ФП.
Комплексная оценка клинического статуса больных с ФП заключается в установлении очевидных и скрытых факторов предсердного аритмогенеза. Значение имеет не только верификация «терапевтических» параметров (толщина ЭЖТ, маркеры сердечного фиброза, вагусные кардиальные рефлексы и т. д.), но и оценка психологического статуса пациента как интегрального показателя удовлетворенностью жизнью. У пациентов с ФП игнорирование психологических фрустраций эндогенного домена может служить катализатором аритмии. В этом смысле необходимо акцентировать внимание на психосоциальных факторах, усугубляющих гипотимию и предположительно способствующих персистированию аритмии (одиночество, низкая социальная поддержка, семейные дисфункции и пр.). Анализ «континуума» болезни конкретного больного с ФП является залогом «точечных» лечебных воздействий, включая внедрение индивидуальных мероприятий по коррекции образа жизни. В конечном итоге комплементарное взаимодействие с врачом должно способствовать появлению у пациента психологического ощущения контроля над болезнью и сохранению его активного взаимодействия с социумом.
Список литературы Фибрилляция предсердий в отсутствие структурного поражения сердца: этиопатогенетическая и клиническая интерпретация
- Миронова Е.С., Миронов Н.Ю., Миронова Н.А., Новиков П.С., Новиков И.А., Лайович Л.Ю. и др. Электрофизиологические параметры сердца и результаты противоаритмического лечения у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, идиопатической и в сочетании с гипертонической болезнью. Кардиология. 2019;59(8):39-46. DOI: 10.18087/cardio.2019.8.n644.
- Weijs B., Pisters R., Nieuwlaat R., Breithardt G., Le Heuzey J.-Y., Var-das P.E. et al. Idiopathic atrial fibrillation revisited in a large longitudinal clinical cohort. Europace. 2012;14(2):184-190. DOI: 10.1093/europace/ eur379.
- Ревишвили А.Ш., Рзаев Ф.Г., Горев М.В., Нардая Ш.Г., Шпектор А.В., Попов С.В. и др. Клинические рекомендации «Диагностика и лечение фибрилляции предсердий». М.; 2017:200.
- Wyse D.G., Van Gelder I.C., Ellinor P.T., Go A.S., Kalman J.M., Narayan S.M. et al. Lone atrial fibrillation: Does it exist? J. Am. Coll. Cardiol. 2014;63(17):1715-1723. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.01.023.
- Голухова Е.З., Жолбаева А.З., Аракелян М.Г., Булаева Н.И., Минашкин М.М. Генетические аспекты развития идиопатической фибрилляции предсердий у больных без структурных сердечных аномалий. Вестник Российской академии медицинских наук. 2019;74(4):245-252. DOI: 10.15690/vramn1120.
- Potrapa T.S., Lip G.Y.H. Lone atrial fibrillation - an overview. Int. J. Clin. Pract. 2014;68(4):418-433. DOI: 10.1111/ijcp.12281.
- Кушаковский М.С. Об изолированной фибрилляции предсердий. Вестникаритмологии. 2002;(28):9-11.
- Davidson E., Rotenberg Z., Weinberger I., Fuchs J., Agmon J. Diagnosis and characteristics of lone atrial fibrillation. Chest. 1989;95(5):1048-1050. DOI: 10.1378/chest.95.5.1048.
- Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V., Afilalo J., Armstrong A., Ernande L. et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echo-cardiography in adults: an update from the American Society of Echo-cardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2015;28(1):1-39.e14. DOI: 10.1016/j. echo.2014.10.003.
- Lubitz S.A., Yin X., Fontes J.D., Magnani J.W., Rienstra M., Pai M. et al. Association between familial atrial fibrillation and risk of new-onset atrial fibrillation. JAMA. 2010;304(20):2263-2269. DOI: 10.1001/ jama.2010.1690.
- Гукасова И.И. Синдром укороченного интервала QT (клиника, диагностика, лечение). Анналы аритмологии. 2005;(4):17-22.
- Martin R.I.R., Babaei M.S., Choy M.K., Owens W.A., Chico T.J.A., Keenan D. et al. Genetic variants associated with risk of atrial fibrillation regulate expression of PITX2, CAV1, MYOZ1, C9orf3 and FANCC. J. Mol. Cell Cardiol. 2015;85:207-214. DOI: 10.1016/j. yjmcc.2015.06.005.
- Pérez-Hernández M., Matamoros M., Barana A., Amorós I., Gómez R., Núñez M. et al. Pitx2c increases in atrial myocytes from chronic atrial fibrillation patients enhancing /Ks and decreasing /Ca L. Cardiovasc. Res. 2016;109(3):431-441. DOI: 10.1093/cvr/cvv280.
- Tucker N.R., Dolmatova E.V., Lin H., Cooper R.R., Ye J., Hucker W.J. et al. Diminished PRRX1 expression is associated with increased risk of atrial fibrillation and shortening of the cardiac action potential. Circ. Cardiovasc. Genet. 2017;10(5):e001902. DOI: 10.1161/circgenet-ics.117.001902.
- Burstein B., Nattel S. Atrial fibrosis: Mechanisms and clinical relevance in atrial fibrillation. J. Am. Coll. Cardiol. 2008;51(8):802-809. DOI: 10.1016/j.jacc.2007.09.064.
- Dzeshka M.S., Lip G.Y., Snezhitskiy V., Shantsila E. Cardiac fibrosis in with atrial fibrillation: Mechanisms and clinical implications. J. Am. Coll. Cardiol. 2015;66(8):943-959. DOI: 10.1016/j.jacc.2015.06.1313.
- Kottkamp H. Fibrotic atrial cardiomyopathy: A specific disease/ syndrome supplying substrates for atrial fibrillation, atrial tachycardia, sinus node disease, AV node disease, and thromboembolic complications. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2012;23(7):797-799. DOI: 10.1111/j.1540-8167.2012.02341.x.
- Vergara E. DE 4 MRI to determine the degree of fibrosis in the left atrial myocardial tissue of AF patients before radiofrequency ablation. J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2011;(8):54-62.
- Forst L., Hune L.J., Vestergaard P. Over weight and obesity as risk for atrial fibrillation or flutter: The Danish Diet, Cancer and Health Study. Am. J. Med. 2005;118(5):489-495. DOI: 10.1016/j.amjmed.2005.01.031.
- Dimitri H., Ng M., Brooks A.G., Kuklik P., Stiles M.K., Lau D.H. et al. Atrial remodeling in obstructive sleep apnea: implications for atrial fibrillation. Heart Rhythm. 2012;9(3):321-327. DOI: 10.1016/j.hrthm.2011.10.017.
- Арндт П., Клинген Н. Психосоматика и психотерапия: справочник. М.: МедПресс-Информ; 2014:365.
- Kobrosly R., van Wijngaarden E. Associations between immunologic, inflammatory, and oxidative stress markers with severity of depressive symptoms: An analysis of the 2005-2006 National Health and Nutrition Examination Survey. Neurotoxicology. 2010;31(1):126-133. DOI: 10.1016/j.neuro.2009.10.005.
- Драпкина О.М., Драпкина Ю.С. Фиброз и активация ренин-ангио-тензин-альдостероновой системы. Артериальная гипертензия 2012;18(5):449-458. DOI: 10.18705/1607-419X-2012-18-5-449-458.
- Ahmad T., Fiuzat M., Neely B., Neely M.L., Pencina M.J., Kraus W.E. et al. Biomarkers of myocardial stress and fibrosis as predictors of mode of death in patients with chronic heart failure. JACC Heart Fail. 2014;2(3):260-268. DOI: 10.1016/j.jchf.2013.12.004.
- Tolone S., Savarino E., Docimo L. Radiofrequency catheter ablation for atrial fibrillation elicited "Jackhammer Esophagus". A new complication due to vagal nerve stimulation? J. Neurogastroenterol. Motil. 2015;21(4):612-615. DOI: 10.5056/jnm15034.
- Кушаковский М.С., Гришкин Ю.Н. Аритмии сердца. Нарушения сердечного ритма и проводимости. СПб: Фолиант; 2014:720.
- Федоров В.В., Розенштраух Л.В., Шарифов О.Ф., Белошапко Г.Г., Юишанова А.В. Изопротеренол потенцирует мерцание предсердий, вызываемое ацетилхолином. Российский физиологический журнал. 2001;(10):1296-1308.
- Marron K., Wharton J., Sheppard M.N., Fagan D., Royston D., Kuhn D.M. et al. Distribution, morphology and neurochemistry of endocardial and epicardial nerve terminal arborizations in the human heart. Circulation. 1995;92(8):2343-2351. DOI: 10.1161/01.cir.92.8.2343.
- Чернявский А.М., Рахмонов С.С., Пак И.А., Карева Ю.Е. Роль автономной нервной системы при развитии фибрилляции предсердий. Клиническая медицина. 2013;(1):16-20.
- Namekata I., Tsuneoka Y., Tanaka H. Electrophysiological and pharmacological properties of the pulmonary vein myocardium. Biol. Pharm. Bull. 2013;36(1):2-7. DOI: 10.1248/BPB.B212020.
- Кузьмин В.С., Розенштраух Л.В. Современные представления о механизмах возникновения фибрилляции предсердий. Роль миокар-диальных рукавов в легочных венах. Успехи физиологических наук. 2010;41(4):3-26.
- Физиология человека; под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. В 3 т., т. 2. М.: Мир; 2005:314.
- Maruyama T., Fukata M., Akashi K. Association of atrial fibrillation and gastroesophageal reflux disease: Natural and therapeutic linkage of the two common diseases. J. Arrhythm. 2019;35(1):43-51. DOI: 10.1002/ joa3.12125.
- Roy R.R., Sugar S., Bunch T.J., Aman W., Crusan D.J., Srivathsan K. et al. Hiatal hernia increases the risk of atrial fibrillation in young patients. J. Atr. Fibrillation. 2013;6(2):894. DOI: 10.4022/jafib.894.
- Linz D., Hohl V., Vollmar J., Ukena C., Mahfoud F., Böhm M. Atrial fibrillation and gastroesophageal reflux disease: the cardiogastric interaction. Europace. 2017;19(1):16-20. DOI: 10.1093/europace/euw092.
- Антропова О.Н., Пырикова Н.В., Осипова И.В. Фибрилляция предсердий и гастроэзофагеальная болезнь: механизмы взаимосвязи, подходы к лечению. Российский кардиологический журнал. 2019;(7):103-109. DOI: 10.15829/1560-4071-2019-7-103-109.
- Friedenberg F.K., Xanthopoulos M., Foster G.D., Richter J.E. The association between gastroesophageal reflux disease and obesity. Am. J. Gastroenterol. 2008;103(8):2111-2122. DOI: 10.1111/j.1572-0241.2008.01946.x.
- Онучина Е.В. Брикова С.И. Романенко Н.Д. Бродач Л.Н. Внепище-водная форма гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц пожилого и старческого возраста. Практическая гериатрия: материалы конференции (Иркутск, 11 февраля 2010 г.); под ред. Ф.И. Белялова, Ю.С. Чаркисова. Иркутск; 2010:45-48.
- Васильев Ю.В. Табакокурение и гастроэзофагеальная рефлюкс-ная болезнь: патогенетические аспекты. Concilium Medicum. 2011;13(8):5-8.
- Galli F., Borghi L., Carugo S., Cavicchioli M., Faioni E.M., Negroni M.S. et al. Atrial fibrillation and psychological factors: А systematic review. Peer J. 2017;5:e3537. DOI: 10.7717/peerj.3537.
- Егоров Ю.В., Розенштраух Л.В. Типы нарушения проведения в легочных венах. Кардиология. 2018;58(6):37-43. DOI: 10.18087/ cardio.2018.6.10131.
- Doisne N., Maupoil V., Cosnay P., Findlay I. Catecholaminergic automatic activity in the rat pulmonary vein: Electrophysiological differences between cardiac muscle in the left atrium and pulmonary vein. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2009;297(1):H102-108. DOI: 10.1152/ ajpheart.00256.2009.
- Ведение фибрилляции предсердий. Практический подход; под ред. М. Шинаса, А.Д. Камма; пер. с англ. под ред. Ю.А. Карпова. М.: ГЭО-ТАР-Медиа; 2019:256.
- Thompson T.S., Barksdale D.J., Sears S.F., Mounsey J.P., Pursell I., Gehi A.K. et al. The effect of anxiety and depression on symptoms attributed to atrial fibrillation. Pacing Clin. Electrophysiol. 2014;37(4):439-446. DOI: 10.1111/pace.12292.
- Трошина Д.В., Волель Б.А., Сыркина Е.А. Стресс-индуцированная фибрилляция предсердий. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. 2019;119(1):6-13. DOI: 10.17116/jnevro20191190116.
- Von Eisenhart Rothe A.F., Goette A., Kirchhof P., Breithardt G., Lim-bourg T., Calvert M. et al. Depression in paroxysmal and persistent atrial fibrillation patients: A cross-sectional comparison of patients enroled in two large clinical trials. Europace. 2014;16(6):812-819. DOI: 10.1093/ europace/eut361.
- Белялов Ф.И. Психосоматика. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2018:344.
- Друк И.В., Нечаева Г.И., Лялюкова Е.А., Дрокина О.В. Кардиоваску-лярные синдромы дисплазии соединительной ткани у лиц молодого возраста: частота регистрации, факторы формирования. Лечащий врач. 2014;(6):72-75.
- Форстер О.В., Шварц Ю.Г. Имеется ли взаимосвязь между степенью дисплазии соединительной ткани, «эмоциональным статусом» и фибрилляцией предсердий у больных с ишемической болезнью сердца? Вестник аритмологии. 2004;33:18-21.
- Новикова М.В. Аритмический синдром и ремоделирование миокарда при дисплазии соединительной ткани. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2013;8(4):84-85. DOI: 10.14300/mnnc.2013.08051.
- Батаев Х., Шихнабиева М. Дисплазия соединительной ткани и ее роль в развитии патологии органов пищеварения. Врач. 2014;(2):7-9.
- Pervichko E., Zinchenko Yu., Martynov A. Peculiarities of еmotional regulation with MVP patients: A Study of the Effects of Rational-Emotive Therapy. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013;78:290-294. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.04.297.
- Begieneman M.P., Emmens R.W., Rijvers L., Walter B.K., Paulus J., Vonk A.B.A. et al. Ventricular myocarditis coincides with atrial myocarditis in patients. Cardiovasc. Pathol. 2016;25(2):141-148. DOI: 10.1016/j. carpath.2015.12.001.
- Ильюшенкова Ю.Н., Сазонова С.И., Баталов РЕ. Гибридные методы визуализации в диагностике воспалительных процессов в миокарде желудочков у пациентов с фибрилляцией предсердий неясной этиологии. Вестник рентгенологии и радиологии. 2019;100(3):166-174. DOI: 10.20862/0042-4676-2019-100-3-166-174.
- Благова О.В., Осипова Ю.В., Недоступ А.В., Коган Е.А., Су-лимов В.А. Клинические, лабораторные и инструментальные критерии миокардита, установленные в сопоставлении с биопсийным исследованием миокарда (алгоритм неинвазивной диагностики). Терапевтический архив. 2017;89(9):30-40. DOI: 10.17116/terarkh201789930-40.
- Бекбосынова М.С., Никитина Т.Я., Голицын С.П. Уровень С-реактив-ного белка и частота выявления аутоантител к ß1-адренорецепто-рам у больных с наджелудочковыми тахиаритмиями. Кардиология. 2006;46(7):55-61.
- Frustaci A., Chimenti C., Тарадин Г.Г. Роль иммуносупрессивной терапии в лечении миокардита. Российский кардиологический журнал. 2017;(2):114-118. DOI: 10.15829/1560-4071-2017-2-114-118.
- Wong C.X., Ganesan A.N., Selvanaygam J.B. Epicardial fat and atrial fibrillation: Current evidence, potential mechanisms, clinical implications and future directions. Eur. Heart J. 2016;38(7):1294-1302. DOI: 10.1093/eurheartj/ehw045.
- Голухова Е.З., Громова О.И., Булаева Н.И., Аракелян М.Г., Лифа-нова Л.С., Шляппо М.А. и др. Эпикардиальный жир и фибрилляция предсердий: роль профиброгенных медиаторов. Кардиология. 2018;58(7)59-65. DOI: 10.18087/cardio.2018.7.10145.
- Дружилов М.А., Кузнецова Т.Ю. Фибрилляция предсердий, ассоциированная с ожирением: роль эпикардиальной жировой ткани в этиопатогенезе аритмии. Российский кардиологический журнал. 2017;(7):178-184. DOI: 10.15829/1560-4071-2017-7-178-184.