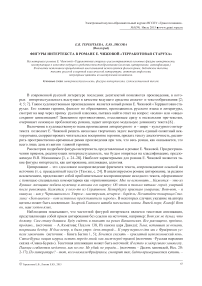Фигуры интертекста в романе Е. Чижовой «Терракотовая старуха»
Автор: Терентьева Елена Витальевна, Лисова Елена Юрьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Фигуры интертекста в системе выразительных средств языка
Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
На материале романа Е. Чижовой «Терракотовая старуха» рассмотриваются основные фигуры интертекста, выступающие в качестве ведущего средства текстообразования (аллюзия, цитирование, амплификация.) В качестве источников прецедентных высказываний используются фольклорные, библейские тексты, тексты русской и мировой классической литературы, античная мифология, популярные цитаты из выступлений политиков.
Интертекстуальность, фигуры интертекста, художественный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14822301
IDR: 14822301
Текст научной статьи Фигуры интертекста в романе Е. Чижовой «Терракотовая старуха»
В современной русской литературе последних десятилетий появляются произведения, в которых интертекстуальность выступает в качестве ведущего средства сюжето- и текстообразования [2; 4; 5; 7]. Таким художественным произведением является новый роман Е. Чижовой «Терракотовая старуха». Его главная героиня, филолог по образованию, преподаватель русского языка и литературы, смотрит на мир через призму русской классики, пытаясь найти ответ на вопрос: «волки» или «овцы» сохранят цивилизацию? Заявленное противостояние, отсылающее сразу к нескольким пре-текстам, очерчивает основную проблематику романа, задает авторскую модальную доминанту текста [6] .
Включение в художественную ткань произведения литературного и – шире – культурного интертекста позволяет Е. Чижовой решить несколько творческих задач: выстроить единый сюжетный вектор романа, скорректировать читательское восприятие героини, придать тексту диалогичность, расширить пространственно-временные рамки произведения при том, что весь роман, как оказывается, это всего лишь день из жизни главной героини.
Рассмотрим подробнее фигуры интертекста, представленные в романе Е. Чижовой. При разграничении приемов, реализующих интертекстуальность, мы будем опираться на классификацию, предложенную В.П. Москвиным [3, с. 24–28]. Наиболее характерными для романа Е. Чижовой являются такие фигуры интертекста, как цитирование, аппликация, аллюзия.
Цитирование – это «дословное воспроизведение фрагмента текста, сопровождаемое ссылкой на источник (т. е. прецедентный текст)» [Там же, с. 24]. В анализируемом романе цитирование, за редким исключением, представляет собой приблизительное воспроизведение исходного текста, оформленное с помощью специальных комментариев как «припоминание»: Мне не вспомнить... Кажется – это из Бунина: женщина любила мужчину и нюхала его картуз; Об этом я только читала: город, умерший после революции. Кажется, у кого-то из Серапионов. Петербургу пристало умирание; Вот-вот, – я кивнула, – как у Чернышевского. Утром – мастерская, вечером – бордель; Почитайте товарища Сталина: «Большевики – вот истинные представители народа». В некоторых случаях указание на автора цитаты может быть косвенным: За аркой Главного штаба плескались волны. Выпей море, Ксанф! Вот он, наш эзопов язык .
Наблюдения показывают, что частотной фигурой интертекста является текстовая аппликация, представляющая собой прием цитирования без ссылки на источник, например: Вот уж не думал, что доживу. Сам стану бывшим. Буду сидеть и плакать на реках Вавилонских. Все расхищено, предано, продано ... (источник – А.Ахматова; Псалом 138, Из канона царя Давида); Тьма, вставшая за окнами, покрывала бездну. И был вечер, и было утро: день второй… К утру первого дня мы с Фридрихом успели закончить (источник – Книга Бытия 1, 5); Хочется сказать – крылатый исполкомовский конь. Сивка-Бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой (источник – Русская народная сказка «Сивка-Бурка»). Текстовая аппликация может быть неточной: Я встаю и задергиваю занавеску. Пальцы сгибаются медленно, как во сне. Не убий, не укради… (источник – Десять заповедей, Исх. 20: 2-17); По литературе? – тот, кого назвали Фридрихом, смотрит так, будто примеривается купить. –
Сеяли разумное, доброе, вечное? (источник – Н.А. Некрасов «Сеятелям»); Гражданин Юпитер сердится. Значит, он глубоко неправ (источник – Лукиан, II в.). Подобные случаи отмечает и Т.П. Акимова, анализируя интертекстуальность в эпистолярном дискурсе [1, с. 309].
Однако излюбленной фигурой интертекста в романе, поддерживающей развитие сюжетной линии, является аллюзия, представляющая собой свернутую выдержку из пре-текста: У меня во рту тошнотворный привкус: разговор Евгения с Татьяной; Татьяна и Евгений ; Му-усик, у тебя комплексы Людоедки Эллочки; Научился у булгаковского доктора, того самого – из знаменитой клиники; – Извините, – я осаживаю себя как птицу-тройку, которая несется, не разбирая дороги ; В их отношениях мне чудится что-то патриархальное, как у барчука с дядькой. Впору вспомнить про заячий тулупчик ; Если бы меня назвали Наташей, к началу девяностых у меня был бы долгожданный сын; Я стала бы толстой и неряшливой, но этим милой Пьеру.
Источником аллюзии могут быть реплики политиков, ставшие прецедентными, например: Максим кивает. – Как лучше. Только получилось как всегда (источник – известное высказывание В.С. Черномырдина), а также книжные фразеологизмы, крылатые слова и выражения: Рыцарь печального образа. После развода вернулся к мамаше.
Таким образом, фигуры интертекста выступают в романе Е. Чижовой «Терракотовая старуха» как ведущее средство текстообразования. Анализ показал, что автор наряду с традиционными группами источников прецедентности использует новые, представляющие собой современные высказывания, популярные цитаты из выступлений политиков.
Список литературы Фигуры интертекста в романе Е. Чижовой «Терракотовая старуха»
- Акимова Т.П. Интертекстуальность в эпистолярно дискурсе/Т.П. Акимова//Интертекстуальность и фигуры интертекста в дискурсах разных типов: коллективная монография/науч. ред. Т.Н. Колокольцева, В.П. Москвин. М.: Флинта-Наука, 2014. С. 305-327.
- Андреева С.Л. Библейские реминисценции как фактор текстообразования: на материале произведений И.А. Бунина «Тень птицы», «Окаянные дни», «Миссия русской эмиграции»: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1998.
- Москвин В.П. Теория интертекстуальности: категориальный аппарат//Интертекстуальность и фигуры интертекста в дискурсах разных типов: коллективная монография/науч. ред. Т.Н. Колокольцева, В.П. Москвин. М.: Флинта-Наука, 2014. С.16-51.
- Некрасова И.В. Разнообразие способов сюжетостроения в новейшей русской литературе//Анализ научных исследований. URL: http://www.confcontact.com/2012_06_14/fl1_nekrasova.htm.
- Петрова Н.В. Интертекстуальность как общий механизм текстообразования англо-американского короткого рассказа. Иркутск: ИГЛУ, 2004.
- Терентьева Е.В. Модальная доминанта художественного текста как средство выражения авторского замысла (на материале трилогии Е.А. Кулькина «Прощеный век»//Актуальные вопросы современной филологии: теоретические проблемы и прикладные аспекты: Материалы международной научно-теоретической конференции. Алматы: Ķазаķ университетi, 2012. С. 183-185.
- Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М.: Директ-Медиа, 2014.
- Чижова Е. Терракотовая старуха: роман. М.: АСТ, 2011.