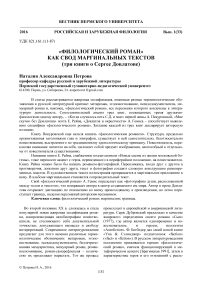«Филологический роман» как свод маргинальных текстов (три книги о Сергее Довлатове)
Автор: Петрова Наталия Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 1 (33), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается жанровая модификация, имеющая разные терминологические обозначения в русской литературной критике: метароман, эгоповествование, псевдодокументализм, мемуарный роман и, наконец, «филологический роман», все персонажи которого вовлечены в литературную деятельность. Сопоставительный анализ трех книг, посвященных тремя друзьями-филологами одному автору, - «Когда случилось петь С.Д. и мне» первой жены А. Пекуровской, «Мне скучно без Довлатова» поэта Е. Рейна, «Довлатов и окрестности» А. Гениса - способствует выявлению специфики «филологического романа». Заглавие каждой из трех книг декларирует авторскую позицию. Книгу Пекуровской еще нельзя назвать «филологическим романом». Структура, предельно организованная заголовками глав и эпиграфов, существует в ней самостоятельно, безотносительно повествования, выстроенного по традиционному хронологическому принципу. Повествователь, переключая внимание читателя на себя, заслоняет собой предмет изображения, неспособный к отдельному от повествователя существованию. Название книги Е. Рейна, снабженное подзаголовком «Новые сцены из жизни московской богемы», тоже переносит акцент с героя, переведенного в периферийное положение, на повествователя. Книгу Рейна можно было бы назвать романом-фотографией. Перекликаясь, входя друг с другом в противоречия, дополняя друг друга, текст и фотографии создают сложную конструкцию разновременных пластов. В художественном тексте иллюстрация превращается в маргинальное приложение к нему. В альбоме маргинальным становится сопроводительный текст. Свой «филологический роман» А. Генис определяет как «фотографию души, расположенной между телом и текстом», что возвращает автора в центр создаваемого им мира. Автор в прозе Довла-това сохраняет дистанцию по отношению ко всему происходящему в произведении, но легко переступает границу, наделяя персонажей авторским всезнанием.
Филологический роман, маргиналии, границы
Короткий адрес: https://sciup.org/14729423
IDR: 14729423 | УДК: 821.161.1(1-87)
Текст научной статьи «Филологический роман» как свод маргинальных текстов (три книги о Сергее Довлатове)
ностью [Карабчиевский 2000; Генис 2004; Щеглов 2004 - историко-филологический роман].
Истоки «филологического романа» современная критика обнаруживает в литературе начала ХХ в. Примерами служат «романы с ключом» (франц. roman à clef), такие как «Сумасшедший корабль» О. Форш или «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» В. Каверина; библиографические романы-реконструкции («Пушкин» Ю. Тынянова, или «Воскресение Маяковского» Ю. Карабчиевского, «Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза» В. Шкловского, «Труды и дни Свистонова» К. Вагинова и «Записные книжки» Л. Гинзбург (литературу по вопросу см.: [Ладохина 2010; Новиков 1999; Разумова 2005 и др. ]). Из современных зарубежных произведений к этому же разряду исследователи относят «Попугая Флобера» Дж. Барнса, «Чаттер-тона» П. Акройда, «Обладать» А. Байетт [Гре-бенчук 2008], трилогию Д. Лоджа («Академический обмен» - 1975, «Мир тесен» - 1984, «Милое дело» - 1988). Романы Барнса и Акройда могли быть определены как романы-реконструкции или романы о художнике (см., например: [Бочкарева 2000]). Герой Д. Лоджа («писатель, в прошлом профессор и теоретик литературы» [Новиков 2001: 8]), путешествуя с конференции на конференцию, рассуждает как раз о теории и научных школах; по месту действия его произведения можно было бы отнести к «университетскому роману», который также выделяется в особую разновидность [Анцыферова 2009], возможно, как и «Счастливчик Джим» К. Эмиса.
При таком расширенном понимании «филологического романа» утрачивается ощущение его специфики. По складывающимся характеристикам филологический роман представляет собой гибридную структуру или «промежуточную словесность» [Степанова 2005], соединяющую документальное и вымышленное и реализующуюся в «синтезе мемуара и эссеистики» [Новиков 1999]. Весьма условная фактографичность каждого из этих жанров фиксируется парадоксом С. Дубровского: «вымысел абсолютно достоверных событий и фактов» (цит. по: [Левина-Паркер 2010: 12]). Кроме того, предполагается, что в таком романе «филолог становится героем, а его профессия - основой сюжета», суть которого в «воплощении филологических идей в структуре романа…, включение литературной или языковой идеи в литературную практику». Развитие действия «ведет к художественным открытиям» [Новиков 1999].
Совокупность реалий и вымысла (необходимая составляющая любого художественного произведения) и герой, генерирующий филоло- гические концепции, - характеристики, вряд ли достаточные для выделения новой жанровой модификации. А. Генис описывает ситуацию иронически: «гордый своей маргинальностью, мемуарист пишет хронику обочины» [Генис 2014: 7], т. е. той подвижной границы, где основное и второстепенное постоянно меняются местами. Мобильность границ реализуется и в структуре повествования, построенного по монтажному принципу переключения временных пластов (см.: [Кукулин 2015]).
Идеальным вариантом такого монтажа могла бы служить «книга прощаний» Ю. Олеши (собранная не им), где он реализует свою «ненависть к беллетристике» и уверенность в том, что ему, «лирику - обрабатывателю и высказывате-лю самого себя», - «фабула о чужих» (т.е. воссоздание жизни другого человека) «не дается» [Олеша 1999: 163]. Беллетристике Олеша противопоставляет не выдуманные, не сочиненные воспоминания, но «истинное содержание прожитого без мудровствований» [там же: 282]. Беда в том, что «на сегодня нет абсолютно честных дневников…. «Стыдятся… Ловчатся. Шифруют…. Следовательно, и в дневнике применяют беллетристические штучки». Ссылаясь на рассуждения В. Шкловского, Олеша вынужден признать, что все-таки «дневник есть произведение беллетристическое [там же: 382]. Документальное и вымышленное утрачивают однозначную определенность.
По М. Бахтину, роман по сути своей - неканонический, маргинальный жанр. «Филологический роман» вдвойне маргинален, поскольку, объединяя собой документальное и вымышленное начала, допускает разные интерпретации вершащихся на глазах повествователя событий и меняет местами повествователя и персонажей. Не только повествователь, но и все персонажи произведения причастны к литературной деятельности.
Размывание границ между повествователем и героями, фактом и вымыслом, центром и периферией в классическом варианте наделяется специфической композиционной структурой, объединяющей и разводящей основной текст и сопровождающий его комментарий. В литературе романтизма, очевидно, заложившей основы повествования такого типа, фабула и сюжет разделены содержательно и композиционно. В классическом примере - «Сказании о Старом мореходе» С.Т. Кольриджа - сюжетное действие развивается в основном тексте, тогда как фабульное вынесено на поля и наделено функцией пояснения причин того, что происходит с героем. Во множестве произведений, от «Божественной ко- медии» Данте до «Поэмы без героя» А. Ахматовой, авторский комментарий дополняет художественный текст невымышленным материалом и таким образом может быть рассмотрен в качестве маргиналий, хотя размещается не на полях, а в конце текста.
В «филологическом романе» граница между non-fiction и fiction практически неопределима, комментарий растворяется в повествовании, не претендуя на абсолютное выяснение происходящего и его объективное толкование, совмещающиеся тексты функционируют по отношению друг к другу как маргиналии с подвижными границами. Не претендуя на точную формулировку специфических особенностей филологического романа, можно попытаться выявить его природу сопоставительным анализом трех книг, посвященных одному автору и написанных тремя его друзьями-филологами, близко знавшими его в разные периоды жизни. Это «Когда случилось петь С.Д. и мне» первой жены С. Довлатова, университетского преподавателя и автора литературоведческих исследований Аси Пекуров-ской, «Мне скучно без Довлатова» поэта и всеобщего наставника Е. Рейна, «Довлатов и окрестности» литературного критика А. Гениса.
Заглавие каждой из трех книг декларирует авторскую позицию.
В книге А. Пекуровской вынесенная в заголовок и фонетически обыгранная строка из стихотворения Б. Пастернака «Когда случилось петь Дездемоне» продолжается бесконечными цитатами и каламбурами, которыми перенасыщен текст. Каждую из глав предваряет эпиграф из романа Б. Поплавского «Аполлон Безобразов», а какая-либо строчка из этого эпиграфа становится названием главки.
В качестве комментария в повествование включаются отрывки из писем, критических статей, байки, уже утратившие авторство и превратившиеся в литературные анекдоты, кочующие из одних мемуаров в другие. Ироничный треп в духе 60-х призван засвидетельствовать принадлежность повествователя к «кругу» или, как формулирует А. Пекуровская, пребыванию «в узком кругу, квадрате и параллелепипеде, центром которого считал себя и был почитаем Сережа» [Пекуровская 2001: 56]. Оказавшись сама вне этого круга, она отказывает Довлатову в самобытности, уверяя, что «псевдодокументальность» «началась с Доната», отца Довлатова, театрального режиссера, писавшего пародии и сатирические рассказы. И недопустимо грубо отзывается о значимых писателях и поэтах: «Сережа был уже не один. С его именем уже ассоциировались пестрые наклейки, зощенки, шварцы, олеши, пановы, бродские, найманы, рейны… Сережа вошел в литературу с заднего хода» [там же: 148]. (Генис замечает: «Входя в литературу, Довлатов обеспечил себя хорошей компанией» – и называет Кафку, Шварца, Олешу [Генис 2004: 13]).
Себе она отводит позицию не оставленной, а оставившей: «Никому ни до меня, ни после не случилось покинуть театральный зал, где Сережа играл свой талантливый спектакль жизни» [Пе-куровская 2001: 169]. «Спектакль жизни» стирает границу между настоящей жизнью и искусством, иллюзорность которого проявляется «в умерщвлении друзей, в превращении их в достойных смеха или презрения персонажей» [там же: 169]. В каких-то из этих персонажей рассказчица узнает себя и понимает, что прошло время «немого восхищения»: Дездемоне, соединившей в своем имени две судьбы, «жить так мало оставалось».
Суперобложка стильно оформленной книжки (А. Бондаренко) представляет собой двойную фотографию Довлатова и Пекуровской, которая разделена на две отдельные фотографии корешком. Если идея предложена автором, то этот элемент можно отнести к разряду маргиналий, реализующих идею разделяющего их текста.
Книгу Пекуровской еще нельзя назвать «филологическим романом». Структура, предельно организованная заголовками глав и эпиграфов, существует в ней сама по себе безотносительно повествования, выстроенного по традиционному хронологическому принципу и мотивированного трогательной потребностью рассказать дочери об отце, которого ей не случилось знать. Повествователь, привлекая внимание читателя к себе, заслоняет собой предмет изображения, неспособный к отдельному от повествователя существованию.
Название книги Е. Рейна, снабженное подзаголовком «Новые сцены из жизни московской богемы», тоже переносит акцент с героя, переведенного в периферийное положение, на повествователя: «Мне скучно без Довлатова». В этом «скучно» проглядывает лермонтовская семантика, «новые сцены» отсылают к книге Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Первая поэма «Сорок четыре», посвященная памяти последнего денди М. Кузмина, устанавливает связь с началом ХХ в.
Книга Рейна представляет собой собрание поэм, написанных в основном белым пятистопным ямбом, и мемуарной прозы. Свои поэмы он называет «рассказами в стихах», в отличие от перемежающихся с ними прозаических рассказов, а совокупность текстов «не то хрониками, не то панорамой времени». Оба сюжетных пласта – стихотворный и прозаический – связаны между собой не только эпиграфами и посвящениями, но и сюжетными ситуациями, мотивами, образами.
Так номер, вынесенный в название поэмы – «Сорок четыре», указывает, в совокупности с «Таврической» и «башней», адрес Вяч. Иванова. Кроме того, «Сорок четыре» – условное количество гостей, умерших и вспоминаемых, – перекликается с хармсовскими «чижами», а «та четверка» – с молодыми поэтами ахматовского круга. Вместе с тем семантика числа напоминает об одном из лейтмотивов русской поэзии: «Нас было много на челне» (Пушкин), «Нас мало. Нас, может быть, трое» (Пастернак), «Нас много. Нас может быть четверо» (Вознесенский). Количество составляющих центр может незначительно колебаться: «У фонаря, у фонаря сойдемся мы втроем… Четвертый подойдет потом… И пятый и шестой»; «О трех уж говорилось, об одном я скажу позднее…»; «Мы сидели впятером за столом…» (Рейн).
Поэме о няне, хоронить которую идут тоже «четыре человека», конечно, предшествует эпиграф из Ходасевича, но иные аллюзии не так очевидны и даже специально сдвинуты частичным изменением названий (Переделкино – Пере-пелкино), имен, инициалов и т.п. Е. Евтушенко в одной из пересказываемых Рейном баек именуется «ну очень знаменитым поэтом», перифраз расшифровывается сопровождающей текст фотографией. В другой, гораздо более пикантной, ситуации тот же персонаж сразу называется по имени.
Рейн использует и обыгрывает разные способы отношения маргиналий к основному тексту. Классический вариант – примечания И. Бродского в подаренном Рейну экземпляре «Урании», которые частично перенесены в виде комментариев в собрание его сочинений. Романтический – пояснение стихотворного текста прозаическим. Рисунок или фотография – тоже своего рода маргиналии, дополняющие смысл произведения и порой настолько значимые, что потесняют повествование; достаточно вспомнить «Анри Матисс-роман» Л. Арагона или «Как один день. Роман-картину» художника Б. Жутовского, где в равноправном взаимодействии визуального и вербального рядов воссоздается история семьи и страны. Свою книгу Б. Жутовский «называет «монографией жизни» [Жутовский 2011].
Книгу Рейна можно было бы назвать романом-фотографией. Перекликаясь, входя друг с другом в противоречия, дополняя друг друга, текст и фотографии создают сложную конструкцию разновременных пластов. В художествен- ном тексте иллюстрация превращается в маргинальное приложение к нему. В альбоме репродукций маргинальным становится сопроводительный текст. Так же равноправны воссоздаваемые события и комментарии к ним.
Довлатов, заявленный Рейном как центральный персонаж, появляется в тексте лишь трижды. В пятой части поэмы «Сорок четыре» он не назван, но репрезентирован поступками, привычками, привязанностями. На расположенных рядом фотографиях Довлатов отсутствует. Второй текст – некролог с тем же названием, что и книга, и с очень выразительной фотографией. Третий – «Не посягнем на тайну» – прозаические мемуары, дополняющие предшествующий поэтический текст. Довлатов, указанный в качестве центральной фигуры, частично скрывается за повествователем («Мне скучно…»), частично сливается с фоном.
Свой «филологический роман» А. Генис определяет как «фотографию души, расположенной между телом и текстом» [Генис 2004: 285], что возвращает автора в центр создаваемого им мира, о чем свидетельствует заголовок «Довлатов и окрестности», позаимствованный из монографии И. Аксенова «Пикассо и окрестности» и уже растиражированный русской критикой (например, «Художник и окрестности: Булгаков и Киев» О. Канунниковой).
Если для Пушкина роман был жанром, где можно болтать свободно, литература начала ХХ в. стала тяготиться традиционной условностью вымысла. Для Гениса «свободный жанр» – это мандельштамовский «Разговор о Данте» или «Прогулки с Пушкиным» А. Синявского, то, что не содержит «биографии», пересказывающей «своими словами» его мысли и чувства, романного хронотопа и четкого отделения автора от героя. В классическом романе прототип героя сохраняет его характер, но прикрывается другим именем. У Довлатова, по замечанию Гениса, «подлинного» в его мемуарах (речь идет о «Невидимой книге») «только фамилии героев» [Ге-нис 2004: 8]. Рассказчик и его герои меняются местом и функциями: герои – «блестящие, остроумные, одержимые художественными безумствами, выглядели крупнее и интереснее примостившегося с краю автора. Сергей сознательно пропускал их вперед», «маячил на заднике своих мемуаров. О себе Сергей рассказывал пунктиром, перемежая свою историю яркими, как переводные картинки, сценками богемной жизни». Довлатов-персонаж даже внешне неотличим от своего автора» [Генис 2004: 12–13]. Оставаясь повествователем или воплощаясь в персонажа, он видит себя «посторонним взглядом», «чужи- ми глазами», но именно он – «голос поколения» – «своим присутствием… склеивает окружающее в одно целое» [Генис 2004: 14].
Автор в прозе Довлатова сохраняет позицию «вненаходимости» по отношению ко всему происходящему в произведении, но, обитая «на касательной» (М. Бахтин), легко переступает границу, наделяя персонажей авторским всезнанием. Так, по слову Гениса, «филологический роман» возвращает в литературу потерянного автора. Факт и вымысел легко меняются в нем местами, и автор избегает указания их принадлежности.
Термин «филологический роман» предполагает автора-филолога, знающего законы организации художественного целого, но это знание не гарантирует той амбивалентной структуры, которая образует этот тип повествования. Филолог (например, Дж. Фаулз или У. Эко) может оставаться в сфере чистого вымысла. Если присутствует документальная событийная основа, то и она допускает возможность разнообразных интерпретаций. Такая возможность осуществима и в классическом, и в постклассическом романе. Для того чтобы он приобрел свойства, выявленные Генисом, в «филологическом романе» (в отличие от романа-реконструкции) необходим писатель, являющийся свидетелем всего происходящего с его героем, присутствующий одновременно в двух ипостасях – автора и героя, и в любой из них вызывающий доверие читателя.
Список литературы «Филологический роман» как свод маргинальных текстов (три книги о Сергее Довлатове)
- Анцыферова О.И. Университетский роман Дж. М. Кутзее: постколониальная модификация жанра//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып. 1. С. 72-78
- Бочкарева Н.С. Роман о художнике как «Роман творения»: Генезис и поэтика. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2000. 252 с
- Брагинская Н.В. Филологический роман. Предварение к запискам Ольги Фрейденберг//Человек. 1991. № 3. С. 134-144
- Генис А. Довлатов и окрестности. М.: Вагриус, 2004. 286с
- Гребенчук Я.С. Проблема «филологического романа» в английской литературе («Попугай Флобера» Дж. Барнса, «Чаттертон» П. Акройда, «Одержимость» А. Байетт) : дисс....канд. филол. наук. Воронеж, 2008. 141с
- Жутовский Б. Как один день. Роман-картина: в 2 т. М.: Тип. «Новости», 2011. 932 с
- Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского: филологический роман. М.: Русские словари, 2000. 384с
- Кукулин И. Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры. М.: НЛО, 2015. 536 с
- Ладохина О. Филологический роман: фантом или реальность русской литературы XX века? М.: Водолей, 2010. 168 с
- Левина-Паркер М. Введение в самосочинение: autofiction//НЛО. 2010. №103. С. 12-40
- Новиков Вл. Филологический роман. Старый новый жанр на исходе столетия//Новый Мир. 1999. №10. С. 193-205
- Новиков Вл. Роман с языком. Три эссе. М.: Аграф, 2001. 315 с
- Олеша Ю.К. Книга прощания. М.: Вагриус, 1999. (Электронная книга Royallib.ru)
- Разумова А.О. «Филологический роман» в русской литературе XX века (генезис, поэтика): автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 2005. 16 с
- Рейн Е. Мне скучно без Довлатова. СПб., 1997. 292 с
- Степанова М.И. Филологический роман как «промежуточная словесность» в русской прозе конца ХХ века//Вестн. ТПГУ. 2005. Вып. 6. Сер. Гуманитарные науки. Филология. С. 75-82
- Пекуровская А. Когда случалось петь С.Д. и мне. СПб., 2001. 431 с
- Щеглов Ю. Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга: историко-филологический роман. Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2004. 740 с