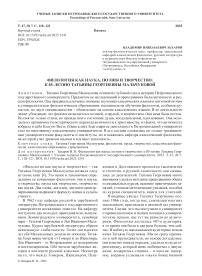Филология как наука, поэзия и творчество: к 85-летию Татьяны Георгиевны Мальчуковой
Автор: Захаров В.Н.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Память
Статья в выпуске: 7 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Татьяна Георгиевна Мальчукова оставила глубокий след в истории Петрозаводского государственного университета. Предметом ее исследований и преподавания были античность и русская филология. Она придавала ключевое значение изучению классических языков и античной поэзии в университетском филологическом образовании, настаивала на обучении филологов, особенно русистов, по двум специальностям – обязательно на основе классических языков. В ее деятельности лежит убеждение, что филология является и поэзией, и наукой, и творчеством. Она сама была поэтом. Поэзия не только стихи, но прежде всего состояние души, воодушевление, вдохновение. Она исходила из органичности исторического перехода античности к христианству, из факта, что античность вобрала в себя Благую Весть (Евангелие). Благодаря ее деятельности Петрозаводский университет стал по-настоящему классическим университетом. В его составе сложились не только традиционные университетские факультеты и институты, но и появилась кафедра классический филологии, на которой учат древним языкам и изучают античность.
Татьяна Георгиевна Мальчукова, филология, наука, творчество, классическая филология, классическое образование, герменевтика
Короткий адрес: https://sciup.org/147252156
IDR: 147252156 | УДК: 80 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1241
Текст научной статьи Филология как наука, поэзия и творчество: к 85-летию Татьяны Георгиевны Мальчуковой
«Филология как наука и творчество» – так Татьяна Георгиевна Мальчукова назвала одну из своих книг [4]. Это ясное и лаконичное определение ее концепции филологии: она и наука, и творчество, наука как творчество, творчество как наука. Два слова, две идеи, две категории исчерпывающе выражают формулу жизни и судьбы ученого.
В 1962 году кафедре русской и зарубежной литературы Петрозаводского государственного университета несказанно повезло. На кафедру поступили два молодых преподавателя, выпускники Ленинградского университета, семейная пара – Татьяна Георгиевна и Лев Иванович Маль-чуковы. Курсы зарубежной литературы обрели невиданную стабильность: более пятидесяти лет оба Мальчуковых делили их пополам: Татьяна Георгиевна читала от Гомера и до Шекспира, Лев Иванович – от Возрождения до модернизма и постмодернизма. Оба читали зарубежных авторов в контексте русской классики. Несмотря на то, что между Гомером, Шекспиром, Пуш- киным и Достоевским пролегали тысячелетия и столетия, в русской словесности они сжимались до десятилетий. Татьяна Георгиевна много внимания уделяла методике преподавания общих и специальных курсов, ведению практических занятий, готовила методические указания, пособия по курсам специалитета, книги для учителей.
Я впервые увидел Татьяну Георгиевну осенью 1966 года, когда нас, семнадцатилетних школьников, пригласили в актовый зал университета. Сказав, что мы поступили в университет старшеклассников и можем посещать университетские лекции, нас тут же развели по аудиториям. Филологам досталась 407-я аудитория, в то время она была в два раза больше, чем сейчас. В набитую школьниками аудиторию вошла юная Татьяна Георгиевна. Мы не сразу признали в ней преподавателя, но вскоре догадались: она властно навела порядок, удалила из аудитории юношу, который живо любезничал с девушками; воцарилась тишина – и многие, наверное, впервые услышали «звуки божественной эллинской речи»: Татьяна Георгиевна вдохновенно декламировала на древнегреческом языке начало «Илиады» Гомера, рассказывала о Троянской войне, о мифах, о богах и героях, слушатели незримо перенеслись в волшебный мир Эллады.

В свое время, когда вышла книга Сергея Сергеевича Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы» [1], мы старались особо подчеркнуть свое посвящение в эзопов язык и изысканную терминологию автора: «ранневизантийский» на самом деле следует читать «раннехристианский» – в этом смысл правильного понимания названия книги.
В отличие от многих коллег, Татьяна Георгиевна не разделяла античность на языческую и христианскую, а всегда подчеркивала органическую преемственность в развитии философии, поэзии, религии. Античность естественно вобрала в себя Благую Весть, Евангелие знаменует переход от античности к христианству.
Рассматривая античные и христианские традиции, темы, мотивы, сюжеты, жанры у Пушкина и Достоевского, поэтов XVIII–XX веков, Татьяна Георгиевна всегда находила следы этого мощного культурно-исторического перехода от античности к христианству.
В 1994 году, спустя год после нашей эпохальной конференции «Евангельский текст в русской литературе», случившейся в Духов день 1993 года [5], профессор Юстейн Бёртнес пригласил к себе в университет Бергена (Норвегия) избранный круг участников прошлогоднего симпозиума [7]. Прослушав стихи Пушкина в исполнении Татьяны Георгиевны, он восхищенно воскликнул: «На небосводе мировой русистики взошла новая звезда – Татьяна Георгиевна Маль-чукова».
Мы это давно знали. Татьяна Георгиевна не декламировала стихи, не разыгрывала их по ролям, как это обычно делают актеры, – она жила стихиями языка, воодушевлялась поэзией, словами и Словом. Так читали стихи Пушкин и Достоевский, так вдохновлялась ими Татьяна Георгиевна.
На карельском радио работал замечательный журналист Николай Исаев. Он годами записывал передачи, выступления и лекции Татьяны Георгиевны. Они выходили по воскресным дням, собирали большую аудиторию. Не верю (хотя был слух), что кто-то неразумный и недалекий не так давно приказал стереть эти записи. Давайте попробуем найти их – еще недавно они были в архиве «Радио Карелии». Может быть, и вправду рукописи не горят?
Татьяна Георгиевна училась в Ленинградском университете на двух специальностях: по русскому языку и литературе и по классическим языкам. Училась блестяще. Ее доклад о Блоке на студенческой научной конференции поэт и критик-символист Дмитрий Евгеньевич Максимов назвал «гениальным». Я это слышал от ее сокурсницы Валентины Евгеньевны Ветловской. Татьяна Георгиевна добивалась успеха по всем направлениям, во всех дисциплинах.
Свой опыт она старалась передать студентам. Брала на двойные специальности только тех, кто был готов учиться с энтузиазмом. Потом двойные специальности запретили. Татьяна Георгиевна пыталась сохранить русскую классику, специальные курсы по Пушкину и Достоевскому. Ей удавалось.
То, чему научилась в Ленинградском университете, она воплощала в профессии и профессуре. Жизнь и судьба Татьяны Георгиевны отрицают бюрократические регламенты образования. Стоит ли удивляться, что из шести студентов-классиков набора 1957 года закончили обучение всего трое, из них двое, Татьяна Георгиевна и Майя Михайловна Кислова, украсили Петрозаводский университет: их достижения оправдали деятельность классического отделения ЛГУ.
Петрозаводский университет стал по-настоящему классическим университетом. В его составе не только сложились традиционные историко-филологический, физико-математический, биологический, медицинский и юридический факультеты, но и появилась кафедра классический филологии.
Беда, что филологов не ценят: сокращают набор, ставки. Тогда упразднили двойные специальности, сейчас сократили кафедру классической филологии. Похоже, Татьяна Георгиевна обиделась на меня, решила, что я захватил кафедру классической филологии, но это не так. Со мной не согласовывали, о слиянии я узнал позже других. Единственное, что удалось – сохранить в названии кафедры «классическую филологию». Изменится отношение государства к филологам – восстановим и то, что было создано тридцать лет тому назад. Как показывает судьба Татьяны Георгиевны, и один классик в поле воин и победитель.
И в науке, и в жизни, и в творчестве Татьяны Георгиевны начисто отсутствовал провинциализм. Она царила везде: и в студенческой аудитории, и в крестьянской избе во время фольклорной практики студентов, и на светском приеме, и на встречах послов, и в общении с корифеями поэзии и наук. Где она, там и стол, где стол, там и столица.
Может показаться, что я сочиняю панегирик. Меньше всего я хотел бы этого. У каждого из нас свои особенности, может быть, есть и недостатки, но все измеряет дело, которому человек посвятил жизнь. Моя задача – воздать должное.
Татьяна Георгиевна сделала филологию наукой, творчеством, поэзией, вдохновением. Она была поэтом.
Ее академическая жизнь успешна. В античности она познала миф, Гомера, трагедию и комедию, прониклась особенностями поэтики и истории античной и современной эпиграммы, объяснила нюансы их концепций. Она защитила две диссертации. Вторую диссертацию защитила уже после того, как получила звание профессора. Ее профессорские заслуги обогнали научные успехи [6].
После появления на конференциях ее стали узнавать все. В 1972 году в Киеве на юную докладчицу обратили внимание Алексей Федорович Лосев и Аза Алибековна Тахо-Годи, они вовлекли ее в свой круг избранных и званых.
От греческой эпиграммы ее путь пролег к Гомеру и Пушкину, русским поэтам XIX века, а потом – к Достоевскому. Ее перу принадлежат две концептуальные статьи «Достоевский и Гомер» [2], «Пушкин и Гомер» [3].
В научном поиске ее увлекали миф, Гомер, переводы, интерпретации сочинений античных поэтов.
Герменевтика (прочтение и истолкование) была предпочтительным жанром филологических исследований Татьяны Георгиевны.
В. А. Верину, выпускнику филфака 1972 года, Татьяна Георгиевна сказала, прочитав его дипломную работу о «Городе Градове» Андрея Платонова: «У вас примечания к работе на уровне докторской диссертации». У самой Татьяны Георгиевны примечания к ее статьям – кладезь эрудиции и премудрости: они расходятся до страницы, иногда уходят на вторую.
В тексте каждого автора есть свой код.
Достоевский утаил главное слово в романе «Преступление и Наказание». В романе этого слова нет, оно есть в записных тетрадях:
« Идея романа
Православное воззрѣнiе въ семъ есть Православiе» 1.
Далее Достоевский растолковывает смысл слова «Православие» в романе и бытии человека и человечества, но в романе об этом должен догадаться читатель.
В Пушкинской речи он произнес другое сокровенное слово:
«Стать настоящимъ русскимъ, стать вполнѣ рус-скимъ можетъ-быть и значитъ только (въ концѣ кон-цовъ, это подчеркните) стать братомъ всѣхъ людей, всечеловѣкомъ если хотите»2.
Смысл слова в его начертании: «Всечеловек» с прописной буквы – Христос, «всечеловек» со строчной буквы – христианин. Слова являют смысл. Концепты связывают тезаурус.
Чтобы понимать труды Татьяны Георгиевны, нужно понимать классические языки, Гомера, Евангелие, Пушкина и Достоевского, понимать ее терминологический тезаурус. Учитесь у профессора Мальчуковой. Впереди у нее долгий, надеюсь, вечный путь.