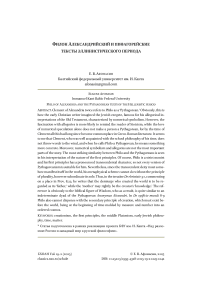Филон Александрийский и пифагорейские тексты эллинистического периода
Автор: Е.В. Афонасин
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Переводы
Статья в выпуске: 2 т.19, 2025 года.
Бесплатный доступ
Климент Александрийский дважды называет Филона «пифагорейцем». Очевидно, именно таким раннехристианский писатель представлял себе иудейского экзегета, известного своими аллегорическими толкованиями Ветхого Завета, характеризующимися числовой символикой. Однако увлечение аллегориями скорее напомнит читателю стоицизм, в то время как сама по себе любовь к числовым спекуляциям не делает человека пифагорейцем, поскольку ко времени Климента всё это давно стало обычным явлением в греко-римской литературе. Мне кажется, что Климент, хорошо знакомый со школьной философией своего времени, не бросает слов на ветер и, называя Филона пифагорейцем, имеет в виду нечто более конкретное. Более того, числовая символика и аллегории – не самые важные части повествования. Наиболее поразительное сходство между Филоном и пифагорейцами проявляется в его интерпретации природы первоначал. Конечно, Филон – строгий монист, и его первоначала носят ярко выраженный трансцендентальный характер, поэтому не всякая версия пифагореизма ему подходит. Тем не менее, поскольку трансцендентное божество должно каким-то образом проявить себя в мире, его метафизическая схема не может обойтись без принципа множественности, какой бы подчинённой ни была его роль. Так, в трактате «De ebrietate» 30, комментируя место в Притч. 8.22, он пишет, что демиурга, сотворившего мир, следует считать его «отцом», тогда как «матерью» по праву может быть «знание» творца. Речь, очевидно, идёт о библейском образе Премудрости, которая, таким образом, весьма подобна неопределённой диаде пифагорейского Анонима Александрийского. В «De opificio mundi» 8-9 Филон также не может обойтись без вторичного принципа творения, который должен существовать до мира, будучи в начале времён преображённым мерой и числом в упорядоченный космос.
Креационизм, первопринципы, средний платонизм, ранняя еврейская философия, время, материя
Короткий адрес: https://sciup.org/147251492
IDR: 147251492 | DOI: 10.25205/1995-4328-2025-19-2-1225-1242
Текст научной статьи Филон Александрийский и пифагорейские тексты эллинистического периода
Климент Александрийский дважды называет Филона «пифагорейцем».1 Очевидно, именно так раннехристианскому писателю представлялся иудейский экзегет, знаменитый своими аллегорическими толкованиями Ветхого Завета, сдобренными числовым символизмом.2 Однако увлечение аллегориями скорее напомнит читателю стоицизм, тогда как любовь к числовым спекуляциям сама по себе не делает человека пифагорейцем, ведь ко времени Климента все это давно стало общим местом в греко-римской литературе. Мне кажется, что Климент, хорошо знакомый со школьной философией своего времени, слов на ветер не бросает и, называя Филона пифагорейцем, имеет в виду нечто более конкретное. Более того, дело тут вовсе не в числовом символизме и аллегориях.
Например, Климент несколько раз использует в Строматах трактат Филона «О том, кто наследует божественное» (Quis rerum divinarum heres sit), отдельные разделы которого, как показал еще Эрвин Гудинаф (Goodenough 1932, 115 sq.), Филон написал под влиянием псевдэпиграфического трактата, приписываемого пифагорейцу Экфанту (Strom. 2.110, 4–111, 2 = Her. 137; 6.134, 1 и 136, 4 = 167; 6.140,1 = 170; 5.94, 5–6 = 231). Кроме того, Климент независимо знает тематически сходный псевдэпиграфический текст и цитирует его (5.29, 1–4), вероятно, путая Экфанта с другим пифагорейцем Эвритом. Теслефф (Thesleff 1961, 39, 65, 69 n. 4, 70) отмечает эту ошибку, добавляя (вопреки Гуди- нафу), что «Экфант» вряд ли повлиял на Филона. Скорее всего, они оба использовали один и тот же псевдо-пифагорейский источник. Филон выводит в трактате образ «разрезающего логоса», который «разделяет универсальную сущность, изначально бесформенную и бескачественную», выделяя из нее четыре элемента и соблюдая при этом совершенное равенство, обеспечивающее во всем идеальную пропорциональность (Her. 139 сл.). Разумеется, аргументация зависит от символического значения чисел 3, 7, 10 и др. (см., напр., Her. 167 сл.).
Под влиянием пифагорейских текстов или нет, Филон пишет, что наш разум является образом «архетипического разума», который сам есть лишь слепок высшего божества ( Her. 231). В «пифагорейском» трактате О царе Экфанта говорится, что царь – это совершенный образ бога, который напоминает остальных людей только своим видом (σκαῖνος). По сведениям же Климента, некий «пифагореец Эврит в книге О случае пишет о том, что демиург создал человека по своему образу», причем «из той же материи, подобно всему остальному, создано и тело тем совершенным художником, который, творя его, взял себя в качестве образца». Очевидно, что перед нами три весьма схожих интерпретации Тимея – в глазах Климента – «пифагорейского» трактата Платона, который, совершенно в духе методологии Филона, конечно же «хорошо усвоил слова Законодателя» и в меру своих сил «ухватил истину в пророчестве, пролив на нее свет и определив в терминах не совсем внешних по отношению к сокрытому в нем смыслу» ( Strom . 5.29, 1–4). Разумеется, сопоставление бога с царем довольно распространено в эллинистической и римской литературе, в основном платонического и герметического толка, так что эта и подобные ей параллели могут иметь другое объяснение, однако мне представляется, что, называя Филона пифагорейцем, Климент по каким-то причинам усматривает связь Филона со школьным пифагореизмом в более точном смысле этого слова, и мы знаем, что он имел для этого все основания.
В общем-то сам Филон указывает, что, «по мнению некоторых», представления подобного рода имеют пифагорейское происхождение (О вечности мира 12). Так, он отмечает, что о вечности мира первыми заговорили пифагорейцы, а не Аристотель в Метафизике 1091а18. Ведь именно это утверждается в известном ему трактате (Псевдо)-Окелла «О природе универсума», который он считает подлинным. Этот текст обычно датируется II в. до н. э. или несколько позже (Harder 1926, Centrone, Macris 2005) и, очевидно, пользовался во времена Филона определенной популярностью. Кроме того, мы знаем, что о вечности и несотворенности души и мира писал, вслед за философами Древней Академии (в особенности, Крантором), отвергая буквальное толкование Тимея, Евдор Александрийский, возможно, создатель неопифа-горейской философии (Плутарх, О сотворении души в Тимее 1013а–b; Bonazzi 2013b, 168, о Евдоре; ср. Диллон 2005, 250–254, о Кранторе), а также то, что эта теория, кроме «Окелла», нашла отражение у Псевдо-Тимея, Псевдо-Аристея и в других псевдопифагорейских трактатах. Невозможно доказать, заключает Мауро Бонацци (Bonazzi 2013b, 169), что Евдор лично причастен к созданию этих текстов, однако все они выполняют одну и ту же задачу – обосновать переход от академического скептицизма к догматизму, связав его с якобы древним пифагореизмом. И Аристотель оказывается на этом пути скорее союзником платонизма, нежели его противником.
Во времена Филона «возрожденный» пифагореизм должно быть был последней философской модой, и нашел яркое воплощение в трудах таких «агрессивных» (по определению Джона Диллона) пифагорейцев, как Евдор и Модерат, первый из которых жил на поколение раньше Филона, а второй, возможно, был его младшим современником. Напомню, что они, в особенности Модерат, придерживались той же методологии, что и Филон: если для Евдора и Модерата платоники представлялись плагиаторами, которые скрывают свой подлинный источник – учение Пифагора, то для Филона таковыми были уже все греческие философы, включая Пифагора. Все они в действительности лишь неверные толкователи философии Моисея.
Иными словами, чтобы во времена Филона стать пифагорейцем, достаточно было разделять именно такое видение истории. При этом, увлекаться числовым символизмом или аллегорически толковать акусмы было, похоже, вовсе не обязательно. Многие псевдэпиграфические трактаты совершенно лишены этих элементов, однако «пифагорейскими» по этой причине быть не перестают. Неоднократно высказывалось предположение, что появились они, в частности, потому, что пифагореизм не нашел места в Новой Академии Аркесилая и Карнеада, а также благодаря переоткрытию в первом столетии до н. э. эзотерических сочинений Аристотеля (Burkert 1961, 236; Kalligas 2004, Dillon 2014, 260).3
О возрожденном пифагореизме мы впервые слышим от Цицерона, который, вспоминая претора 58 года и сторонника Помпея в гражданской войне Публия Нигидия Фигула (Предисловие к переводу Тимея Платона, ed. C. F. W.
Mueller, 1890),4 пишет, что его друг не только «был сведущим во всех тех искусствах, в которых должен разбираться всякий образованный человек», но и «…вернул к жизни учение тех благородных пифагорейцев, чья философия, после нескольких веков расцвета в Италии и Сицилии, впоследствии пришла в упадок (post illos nobiles Pythagoreos, quorum disciplina extincta est quodam modo, cum aliquot saecla in Italia Siciliaque viguisset, hunc extitisse, qui illam ren-ovaret)». Следует заметить, что в настоящее время принято выстраивать более плавную пифагорейскую традицию от Спевсиппа и Ксенократа до Нуме-ния и Ямвлиха (Dillon 2014), однако в этом сообщении легко усмотреть особый пафос, именно, переданное Цицероном ощущение новизны. Разумеется, Пифагор пользовался неизменной популярностью в Италии благодаря локальному патриотизму. В Риме стояла его статуя, воздвигнутая по прямому указанию Аполлона Дельфийского (Плиний, Естественная история 34.26), книготорговцы распространяли «пифагорейские» трактаты, якобы написанные различными древними пифагорейцами, такими как Лисид, Теано, Архит или Тимей, а другой известный интеллектуал того времени Варрон цитировал «неопифагорейское» Второе письмо Платона ( ap . Цензорин, О дне рождения 4.3; кстати, первое упоминание об этом тексте) и «пространно рассуждал» (по сообщению Авла Гелия, Аттические ночи 3.10) о свойствах числа семь.5
Более важным источником для Нигидия Фигула могли стать труды близкого к пифагорейской традиции Александра Полигистора (род. ок. 105 г. до н. э. в Милете).6 С опорой на Александра Диоген Лаэртий (8.24–33) подробно пересказывает некий «пифагорейский» источник, который получил в литературе название Anonymus Alexandri (текст: Thesleff 1965, 234–237; подробное исследование: Festugière 1945; Long 2013). В нем сначала, в духе Древней Академии, излагается доктрина порождения чувственного мира из геометрических объектов, а последних – из математических, и после такой интерпретации Тимея неизвестный автор переходит сначала к описанию устройства одушевленного и шаровидного космоса, временам года, смена которых объясняется изменением соотношения света и тьмы, холода и жары, сухости и влажности (что напоминает Алкмеона, 24 B 4 DK, Тимей 82а, а также «Об отдельных законах» 1.208 Филона, который, по видимому, интерпретирует «равноправие» элементов в стоическом контексте, см. SVF 2.616 и 618), солнцу, луне и другим небесным телам. Душа объявляется «отрывком» (ἀπόσπασμα) эфира, причем в ней в определенной пропорции соединено теплое и холодное (что может напомнить Алкмеона, 24 А 12 DK, а также, как замечает А. Лонг (Long 2013, 152), показывает, что пифагорейцы Александра были физикалистами аристотелевского или стоического типа и не похоже, чтобы верили в бестелесное существование). Не обходится наш автор и без эмбриологии, причем этапы формирования плода, как и у Варрона, сопряжены с числовым символизмом и подчинены законам гармонии (τοὺς τῆς ἁρμονίας λόγους). Имя Пифагора упоминается в связи с его представлением о том, что глаза – это «врата солнца» (по-видимому, интерпретируется Гомер, Одиссея 24.9–12). Душа человека включает, по мысли неизвестного автора, три способности: ум (νοῦς), рассудок (φρήν) и страсть (θυμός), причем бессмертным объявляется лишь разум. В своем комментарии к этому месту Festugière (1945, 44) отмечает, что «гомеровский» термин φρήν в медицинской литературе эллинистическо-римского периода мог просто обозначать «мозг» (ср. Anonymus Londinensis IV, 13–17),
152 фрагмента). Античные авторы, такие как Вергилий, Плиний, Валерий Максим, Иосиф Флавий, Климент Александрийский, Евсевий Кесарийский, Стефан Византийский, Константин Багрянородный, средневековые схолиасты и др., цитируют выдержки из его исторических, экзегетических и географических произведений, в основном касающихся Ассирии, островов Средиземного моря, Иудеи и Малой Азии. Фрагменты исторических трудов собраны Мюллером и Якоби: K. Müller, FHG 3; F. Jacoby, FrHGr, Nr. 273. Его интерес к античной философии и, в частности, к пифагореизму нашел отражение в истории философии в жанре «Преемств» (несколько раз цитируется Диогеном Лаэртием, при изложении жизни и учения Сократа, Платона, Карнеада, Хрисиппа, Пиррона, Пифагора) и в специальном трактате О пифагорейских символах (цитаты у Климента Александрийского, Строматы 1.70, 1 и Кирилла Александрийского, Против Юлиана 9 = фр. 138 a–b FHG). В Комментарии к Тимею Платона Калкидия сохранился небольшой пифагорейско-астрономический фрагмент (140 a FHG).
тогда как связь мышления с эфиром можно найти, к примеру, у философа IV в. Диогена из Аполлонии, который также писал об эмбриологии. Возможно, как предполагает Лонг (Long 2013, 156), пифагорейцы, в контексте учения о метемпсихозе, распространяют действие рационального начала на все живые существа, поэтому им понадобилось новое слово для обозначения собственно человеческого разумения. Теплу в психофизических процессах большое внимание уделяли гиппократики и стоики, к примеру, Посидоний, однако тепло играло определенную роль и в биологии Филолая (Kahn 2001, 81; Huffman 1993, 289), так что, почему бы не возвести эту идею непосредственно к пифагорейцам и ранним медикам?7 Перед нами, безусловно, пифагорейская теория формирования эмбриона «по законам гармонии» (которые одновременно называются «дуновениями», и «скрепами души»), хотя о гармонической слаженности элементов и затвердевании зародыша под действием тепла и огня говорится в трактатах Гиппократовского корпуса (к примеру, О диете 8, 1–2; 9, 1–3). А. Лонг (Long 2013, 155–157) также отмечает важные стоические параллели.
Завершается фрагмент религиозно-этическим поучением. Говорится, что Гермес возводит ввысь лишь чистые души, тогда как нечистые помещаются Эринниями в оковы и заставляют их томиться в одиночестве, поэтому философия Пифагора особое внимание уделяет культивированию добра и справедливости, которые «текут ровным потоком». При этом стремиться нужно к слаженности (гармонии, ἁρμονία), потому что от нее зависят здоровье и другие блага, такие как ключевая пифагорейская добродетель, дружба. Наконец, перечисляются традиционные пифагорейские пищевые запреты, которые должны соблюдаться в рамках определенных посвятительных ритуалов (τὰς τελετὰς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπιτελοῦντες).
Можно ли, как полагает Чарльз Кан, считать это сообщение доказательством реального существования в этот период «орфико-пифагорейского» ритуального сообщества (Kahn 2001, 83)? Ведь от историка III в. до н. э. Тимея из Тавромения мы знаем, что дом Пифагора превратили в святилище (см. Lévy 1926, 53–59), известно, что одна из италийских базилик была идентифицирована как «пифагорейский храм» (Carcopino 1927) и, кроме того, пифагореизм с древнейших времен тесно ассоциировался с орфикой, которая вполне могла удовлетворять религиозные чувства приверженцев пифагорейского учения. Мне представляется, что двигаться лучше в противоположном направлении: религия – явление более массовое, так что приверженцы орфико-вакхического культа, вроде тех, которые засвидетельствованы золотыми табличками из италийских и греческих погребений и захоронениями в Дервени,8 могли испытывать пифагорейские симпатии или даже принадлежать к одному из «подпольных» пифагорейских сообществ.9
Но вернемся к «пифагорейским» к первым принципам:
«Александр в Преемствах философов говорит, что в Пифагорейских записках находится также следующее: началом всех вещей является монада, этой монаде, как причине, подлежит, как материя, неопределенная диада. Из монады и неопределенной диады происходят числа; из чисел – точки, из них – линии, из линий – плоские фигуры, из плоских – объемные фигуры, из них – чувственно воспринимаемые тела, которые составлены из четырех первоэлементов – огня, воды, земли и воздуха. Эти элементы взаимодействуют друг с другом и подвергаются взаимным превращениям, создавая одушевленный, умный и сферический космос, с землей в центре, которая сама тоже шаровидна и повсеместно обитаема (пер. М. Л. Гаспарова, с изменениями)». 10
В сообщении Секста Эмпирика ( Adv. Math . 10.248–309; ср. 7.94–109) эта теория формулируется в эксплицитно платонических терминах:
«Пифагор говорил, что монада есть начало всего сущего, по причастности к которой каждая из существующих вещей называется единой. Будучи рассмотренной с точки зрения тождества по отношению к себе самой, она оказывается монадой, будучи добавленной к себе как иному она порождает неопределенную диаду, которая называется так потому, что сама она не является ни одной из исчислимых и определенных двоиц, напротив, все они получили название двоицы по причастности к ней, то есть в том же смысле, как и в отношении монады. Итак, есть два начала сущего, первая монада, по причастности которой все исчислимые единицы мыслятся как единицы, и неопределенная диада, по причастности которой все определенные двойки являются двойками (261)».11
Описываемая далее «пифагорейская» система категорий (которая вполне согласуется с категориями, принятыми в Древней Академии) призвана раскрыть процесс порождения числового универсума:
«Так, остальные числа происходят из этих двух: единица всегда полагает предел, а неопределенная диада порождает двойку, распространяя числа до бесконечного множества. Так оказывается, что среди этих причин монада приобретает смысл действующей причины, а диада – пассивной материи (τοῦ δρῶντος αἰτίου λόγον ἐπέχειν τὴν μονάδα, τὸν δὲ τῆς πασχούσης ὕλης τὴν δυάδα). Создав из этих начал идеи чисел, они распространили далее этот процесс и на весь космос, и на все, что в нем (277)».
Затем подробно объясняется уже знакомая нам связь между первыми четырьмя числами и основными геометрическими объектами – точкой, линией, плоскостью и трехмерным телом (278–280). Причем, от Секста не ускользнуло, что древние пифагорейцы были дуалистами и выводили все числа из двух начал, монады и неопределенной диады, тогда как новые пифагорейцы – строгие монисты и все выводят из одной точки (282).
Сравним также сообщение Калкидия ( Комментарий к Тимею Платона 295, p. 297 Waszink; Нумений, фр. 52 des Places):
«Нумений из школы Пифагора, отвергнув стоическое учение о началах, обратился к пифагорейской доктрине, которая, по его словам, согласуется с платонической. Он говорит, что Пифагор называет бога монадой (singularitas), а материю – диадой (duitas). В качестве неопределенной (indeterminatam) эта диада не рождена
(minime genitam), будучи же ограниченной (limitatam) – рождена (genitam). То есть до украшения формой и порядком она была без начала (ortus) и рождения (generatio), но, будучи упорядоченной и оформленной богом-демиургом (а digestore deo), она рождается; кроме того, поскольку рождение – это ее последующая судьба (furtuna), то, неукрашенная и нерожденная, она должна считаться такой же древней (aequaevum), как и бог, который ее упорядочивает. Однако некоторые пифагорейцы не поняли этого положения и решили, что неопределенная и безмерная (indeterminatam et immensam) диада также была произведена единичной монадой (ab unica singularitate), как будто эта монада, отступив от своей природы, допустила появление двоицы. Однако это неверно, ибо тогда то, что было, монада, перестала бы существовать, а то, чего не было, диада, стала бы чем-то сущим (subsisteret) и бог превратился бы в материю, а монада – в неопределенную и безмерную диаду».
О возникновении чувственного мира из умопостигаемых сущностей говорится и в «пифагорейском» источнике, который пересказывает Фотий ( Bibl ., Cod. 249). Здесь монада сразу возводится в ранг высшего принципа, из которого затем возникают геометрические объекты, отличающиеся как от чисел, так и от трехмерных объектов, которые называются телами.
В трактате Псевдо-Архита О началах (Stob. I, 41, 2, p. 278–279 Wachs. = Thesleff 1961, 19–20) кроме двух первоначал – формы (μορφώ) и материи (ὠσία), которые соответствуют монаде и диаде, возникает третье высшее начало, «то, что движет само себя и первое по силе», причем «эта сущность должна быть не просто умом (νόω), но чем-то лучшим, нежели ум; и ясно, что именно то, что превосходит ум, мы называем богом».12 Аналогично, комментируя Метафизику Аристотеля неоплатоник Сириан (In Met., p. 166, 3 sq. Kroll) сообщает, что пифагорейцы Архенет (вероятно, Архит), Филолай и Бронтин постулируют некий «общий каузальный принцип превыше двух причин», причем Архенет называет его «причиной причин», Филолай – «первоначалом всех вещей», а Бронтин говорит, что он превосходит ум и сущность своей силой и властью.13
Сириан упоминает об этом не случайно, ведь нечто подобное действительно критикуется Аристотелем в седьмой главе тринадцатой книги Метафизики , и мы точно знаем, что эта доктрина может быть возведена к Спев-сиппу и Ксенократу.14 Источник Александра и Секста следует датировать временем не позже 80-х гг. до н. э., но, возможно, и ранее.15 Представляется, что именно в подобных текстах впервые предпринимается попытка преодолеть исходный пифагорейский дуализм, что могло послужить образцом для Евдора Александрийского (I в. до н. э.), а затем Модерата из Гадиры (I в. н. э.), Никомаха из Герасы (II в. н. э.) и других неопифагорейцев, в том числе и вышеупомянутого Нумения из Апамеи (также II в. н. э.), причем в качестве ключевой фигуры, оказавшей определяющее влияние на этот процесс, многими исследователями рассматривается первый из них,16 так как из Комментария
Симпликия к Физике Аристотеля (181, 10–30 Diels) мы узнаем, что над монадой и неопределенной диадой он поместил высшее начало, Единое (10–17). Именно оно называется далее причиной для материи17 и всего чувственно воспринимаемого мира, выступая по отношению к всему возникшему в качестве высшего божественного начала: «ἀρχὴν ἔφασαν εἶναι τῶν πάντων τὸ ἕν, ὡς ἂν καὶ τῆς ὕλης καὶ τῶν ὄντων πάντων ἐξ αὐτοῦ γεγενημένων. τοῦτο δὲ εἶναι καὶ τὸν ὑπεράνω θεόν» (17–19). При этом отмечается, что неопределенная диада и монада находятся в оппозиции друг к другу (22–30):18
«Должно сказать, что пифагорейцы превыше всего в качестве первого начала полагали Единое, а затем, на следующем уровне, помещали два начала сущих вещей, единицу и природу, ей противоположную. В соответствии с этими последними они располагали все то, что считали противоположностями, так, все изящное они относили к единице, а невзыскательное – к противоположному принципу. По этой же причине эти последние не рассматривались ими как абсолютные, ибо если одно является началом одного (набора противоположностей), а другое – другого, то они, в отличие от Единого, не могут считаться общим началом для них всех (Simplicius, In Phys. 181, 10–17 Diels)».19
В других местах Евдор первое начало по-прежнему называет ἀρχή, а вторичные начала – уже не ἀρχαί, а στοιχεῖα, при этом, описывая аристотелевские категории, он также располагает их в соответствии со своей метафизической схемой. Сущность он соотносил с Единым, а качество и количество – с монадой и диадой соответственно. Качество как форма воздействует на количество и порождает идеи-числа (Simplicius, In Cat . 206, 10 sq. Kalbfleisch). Это напоминает вышеупомянутое сообщение Секста Эмпирика, а также фр. 4 Модерата, в котором последний рассуждает в похожих терминах (Simplicius, In Phys . 230, 34–232, 6 Diels; Афонасин 2014, 302–306). Так что Плутарх (О сотворении души в Тимее 1013b сл.) был прав, утверждая, что Евдор, в духе Древней Академии, истолковывал идеи как числа.20 Все это, конечно, значительно развивает более простую метафизическую схему псевдэпиграфических пифагорейских трактатов и анонима Александра. Поэтому естественно предположить, что трактат Псевдо-Архита «Об цельной системе (категорий) [Περὶ τοῦ καθόλου λόγου]», сфабрикованный в качестве «оригинала» Аристотелевских Категорий , может быть все же датирован временем до Евдора (Bonazzi 2013 a, b), хотя, конечно, дела могли обстоять противоположным образом, и «Архит» сам мог зависеть от Евдора (Szlezák 1972, 13 sq., cf. Hatzimichali 2018, Mansfeld 2019).
В этой связи крайне примечательно, что именно такую последовательность категорий мы находим и у Филона (De decalogo 30): сущность – качество – количество (как в Метафизике Λ 1069а23–24). Причем «когда» и «где», которые Филон идентифицирует с временем и пространством, располагаются в конце списка, как и у Псевдо-Архита, тогда как Евдор помещает их следом за тремя первыми (Simplicius, In Cat. 206.10–15; Bonazzi 2013b, 179–183). От исследователей не ускользнуло и сходство рассуждений Филона с трактатами Псевдо-Архита «О противоположностях», «О мудрости» и «О разуме», в которых универсальный логос охватывает как роды сущего, так и выражение мысли (22.8, 44.8, 38.10 Thesleff; Centrone 2014, 325). Вполне вероятно, что, истолковывая на новый лад Тимей Платона (относительно которого к его времени уже сложилось разветвленная традиция комментирования) и Метафизику Аристотеля (которую прокомментировать еще предстояло), Евдор целенаправленно выделяет (в духе Метафизики Λ 2) базовые στοιχεῖα (считая их началами числа), к которым могли бы в конечном итоге сводиться все остальные элементы, дополняя этот числовой атомизм трансцендентным началом (ἀρχή), к которому базовые «стихии» не сводятся даже в своем пределе.
Ярче всего сходство Филона и пифагорейцев проявляется в его интерпретации первых начал. Разумеется, Филон строгий монист и его первое начало носит выраженно трансцендентный характер, поэтому ему подходит не всякая версия пифагореизма. И все же, так как трансцендентное божество должно как-то проявить себя в этом мире, его метафизическая схема не может обойтись без начала множественности, сколь бы подчиненную роль оно не играло. Так, в трактате «Об опьянении» ( De ebrietate 30), комментируя место из Притч (8.22), он пишет, что демиург, сотворивший мир, должен считаться его «отцом», тогда как «матерью» по праву может стать «знание» (ἐπιστήμη) творца. Именно в нее он «посеял семена творения», она же, зачав от творца, породила сына – наш чувственно воспринимаемый мир, ведь «мать и кормилица (τιθήνης) творения должна быть старше всего возникшего». Очевидно, что речь идет о библейской фигуре Премудрости, которая в результате, совершенно как в Анониме Александра , представляет собой неопределенную диаду, которая «подлежит в качестве материи, монаде как причине». Более того, в вышеупомянутом трактате «О том, кто наследует божественное» (156) он эксплицитно указывает на роль идей и чисел в оформлении мира. И разумеется, в своих комментариях к Ветхому Завету Филон постоянно обращается к пифагорейской аритмологии. Самым известным местом, должны быть, является пространный дискурс о свойствах числа семь в «О сотворении мира согласно Моисею» (90–127).21 Таким образом, как и у пифагорейцев, мир порождается не только словом, но и числом.
Ранее в том же трактате (8–9) Филон пишет, что Моисей, постигнув природу вещей благодаря божественным речениям (букв., оракулам: χρησμοῖς),
«… понял, что среди сущих вещей обязательно должна быть как действующая причина (δραστήριον αἴτιον), так и другая, претерпевающая (παθητόν), причем действующей причиной является наичистейший и беспримесный универсальный разум (ὁ τῶν ὅλων νοῦς), превосходящий добродетель (ἀρετὴ), превосходящий знание (ἐπιστήμη) и даже превосходящий благо и красоту сами по себе (αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν καὶ αὐτὸ τὸ καλόν), тогда как претерпевающая (причина), сама по себе бездушная и неподвижная (ἄψυχον καὶ ἀκίνητον), будучи приведена в движение и будучи одушевлена умом, превращается в совершеннейшее творение (ἔργον), каковым является космос».22
Очевидно, что даже такой монист, как Филон, не может обойтись без вторичного начала творения, которое должно существовать до возникновения мира и дать ему жизнь, в начале времен будучи оформлено мерой и числом в упорядоченный космос.