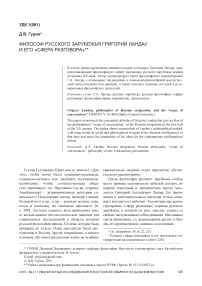Философ русского зарубежья Григорий Ландау и его "сфера разговора"
Автор: Гурин Д.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье реконструированы концептуальные установки Григория Ландау, ярко представляющие философскую «сферу разговора» русского зарубежья первой половины ХХ века. Автор демонстрирует связи философского мировоззрения Г.А. Ландау с основными тенденциями в социально-философской мысли русской интеллигенции того времени, а также отмечает значение его идей для современных философских дискуссий.
Г.а. ландау, русское зарубежье, русская философия, "сфера разговора", философия права, евразийство, персонализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170175578
IDR: 170175578
Текст научной статьи Философ русского зарубежья Григорий Ландау и его "сфера разговора"
Grigory Landau, philosopher of Russian emigration, and his “scope of conversation”. DMITRY V. GURIN (Baltic Federal University)
The paper reconstructs the conceptual attitudes of Grigory Landau that give an idea of the philosophical “scope of conversation” of the Russian emigration in the first half of the XX century. The author shows connections of Landau’s philosophical outlook with main trends in social and philosophical thought of the Russian intelligentsia of that time and notes the importance of his ideas for the contemporary philosophical debate.
Kewwords: G.A. Landau, Russian emigration, Russian philosophy, “scope of conversation”, philosophy of law, Eurasianism, personalism
Густав Густавович Шпет как-то заметил: «Для того, чтобы нечто было социально-реальным, социально-ценным или, наоборот, малоценным, необходимо, чтобы соответствующее общество признавало это. Признание (ну-ка, старина: Anerkennung) – детерминитивная категория социального! Популярный лектор, великий ученый, большой поэт и пр., и пр., – реально велики, пока, когда и поскольку их таковыми признают» [6, с. 389]. Эта идея «единого акта признания» имеет весьма важное методологические значение для современных исследований в области истории русской философии начала ХХ века, которая была прервана на взлете. Одни мыслители были расстреляны в России, другие отправились в вечное изгнание. Их интеллектуальная жизнь на чужбине сравнительно недавно стала предметом обстоятельного рассмотрения.
Среди философов русского зарубежья особое место занимал основательно забытый сегодня, но широко известный в эмигрантских кругах мыслитель Григорий Адольфович Ландау. Его факты жизни и интеллектуальное наследие только начинают выходить из небытия1. Тем интереснее реконструировать «сферу разговора»2 периода русского зарубежья, в которой он жил, мыслил, спорил со своими заслуженными собеседниками. Нам важны «акты признания», т.е. высказывания других о Ландау, его произведениях, мнениях и полемиках.
Г.А. Ландау и при жизни был известен больше как публицист, чем философ. Хотя часть его современников не упускала из виду и эту сферу его творчества. В заметке по случаю шестидесятилетия Г.А. Ландау назван «талантливым журналистом», «большим мыслителем» и «русским философом-социологом», малоизвестным российскому обществу. «Его философско-социологические работы, исключительно ценные по духовной личности мыслителя – “Критика достоверности”, “Систематическая философология”, “Теория ценностей”, “Теория общества и права”, по тяжким обстоятельствам времен революции остались незаконченными» [9, с. 3]. Действительно, жизнь и творчество этого мыслителя во многом стала отражением событий, происходящих в жизни России и Европы.
Одним из самых запоминающихся творений Г.А. Ландау можно назвать сборник афоризмов «Эпиграфы» [17]. Выход в свет этой работы был отмечен в газете «Возрождение», где И.С. Лукаш опубликовал свою заметку. В ней он отмечает, что «имя Г.А. Ландау, если не всегда доходит до “широкой публики”, то всегда находится в фокусе русской мысли за рубежом. Г.А. Ландау, как бы одна из “неприметных” и вместе ценнейших фигур зарубежной элиты» [21, с. 3]. В.И. Повилай-тис замечает «что, эмиграция скорее слышала о Ландау, чем читала его» [23, с. 102], и «Эпиграфы» как раз один из примеров такой известности. Контекстуальное упоминание этой работы можно встретить в произведении М.И. Цветаевой «Нездешний вечер», где для передачи духа эпохи она пишет про то, как «критик Григорий Ландау» читает свои афоризмы. Г.А. Ландау для нее является одним из образов старого миропорядка и переломного момента в жизни страны, по которому испытывается чувство ностальгии. «Я эту вещь назвала Нездешний вечер. Начало января 1916 г., начало последнего года старого мира. Разгар войны. Темные силы» [27, с. 184].
В своей «Истории русской философии» [19] Н.О. Лосский упоминает статью Г.А. Ландау (вероятно «О политике права» [13]), анализирующую психологизм Л.И. Петражицкого, в университете у которого работал мыслитель. Работа служит для него одним из примеров обоснования антинатура-листской тенденции в русской философии. Обращает внимание на себя тот факт, что Г.А. Ландау упоминается здесь в главе «Юристы-философы» наряду с П.И. Новгородцевым, Е.В. Спекторским, Г. Гурвичем и другими. И то, что упомянутая работа была отмечена таким видным философом как Н.О. Лосский, говорит о неординарности мысли
Г.А. Ландау, а ведь эта статья относиться к раннему периоду творчества мыслителя. В дальнейшем Г.А. Ландау и Н.О. Лосский даже были замечены в дискуссии на страницах печатных изданий.
В 1925 г. в журнале «Современные записки» выходит статья Н.О. Лосского «Органическое строение общества и демократия» [20], в которой философ отмечает увеличение количества отрицательной критики демократических основ. Мыслитель выделяет два довода оппонентов: неорганический (механистический) характер демократии и отсутствие в ней объективных, абсолютных принципов (этический релятивизм). Ко всему прочему, эксплицитно или имплицитно, демократии противопоставляется абсолютная монархия как выразительница единой воли, данной религией (в частности христианством). Н.О. Лосский пытается рассмотреть основательность подобной критики с точки зрения «учения об онтологической природе общества». Он отмечает тяготение монархистов к органическому мировоззрению, к универсализму, а демократов – к мировоззрению неорганическому, к индивидуализму, и говорит, что «задача состоит в том, чтобы найти синтез универсализма, т.е. выработать мировоззрение, в котором было бы показано, как возможна относительная онтологическая самостоятельность целого и вместе с тем относительная самостоятельность элементов» [20, с. 344-345]. Подобный синтез возможен на основе разновидности органического миропонимания, который Н.О. Лосский называет «иерархическим персонализмом».
Главным положением концепции является наличие в мире «субстанциальных деятелей», представляющих собой идеальные начала, деятельность которых образует реальное бытие. В качестве примера такой сущности философ приводит человеческое «Я». Для более конкретного понимания Н.О. Лосский проводит аккуратные параллели своей концепции с лейбницианской манадоло-гией и платоническим идеализмом. В результате он делает вывод о возможности непосредственного созерцания бытия (интуиции) и о том, что «система мира, состоящая из множества свободных самостоятельных и вместе с тем исконно единых начал, не может сама быть источником своего бытия: она может быть мыслима только, как творение Бога» [20, с. 346]. Затем мыслитель отмечает, что подобный тип мировоззрения можно назвать «персонализмом», так как каждый субстанциальный деятель является действительной или потенциальной личностью. Возвращаясь к иерархическому принципу, Н.О. Лосский полагает наличие более и менее развитых социальных деятелей ор- ганически единых для совместной деятельности. Здесь «иерархический персонализм» можно представить на примере политического устройства, где «государственное целое есть личность высшего порядка» [20, с. 347], на этом уровнем появляется другой тип бытия – социальный. Социальное бытие при этом является органическим, но только не биологически понимаемой органичности, а философски, как целого, определяющего свои элементы.
Говоря об «иерархическом персонализме», Н.О. Лосский считает его учением о монархическом строении Вселенной, онтологически существенно отличающимся от политического строя. Началом такого государства философ называет «Душу народа», которую можно сравнить с объективным духом Гегеля, но полноценно эта душа не может выразиться в одном человеке. По мере усложнения общественной жизни верховная власть начинает испытывать влияние сверхчеловеческого единства, что приводит к ее (власти) ограничению или смене на республиканскую форму правления. «Именно чистота следования монархическому принципу строения вселенной требует в государственной жизни соборного строя власти» [20, с. 351], а демократия является выражением соборности и сверхчеловеческого единства, в которой ограничиваются противоречащие целому стремления отдельных лиц. В завершении статьи Н.О. Лосский отмечает, что наметившийся кризис демократии нельзя разрешить, вернувшись к жесткой монархической власти, «перед нами не кризис демократии, а кризис всякой старой власти и всего старого порядка вообще» [20, с. 354]. Ситуацию можно изменить только путем активного социального творчества.
В этом же году на статью Н.О. Лосского отозвался Г.А. Ландау. В этот период он работал заместителем редактора газеты «Руль», в которой опубликовал статью «Философия и политика» [16]. В его статье Н.О. Лосский характеризуется как «наиболее самобытный и выдающийся русский философ», однако критике подвергается его отношение к демократии и монархии. Г.А. Ландау задается вопросом о возможности выражения персонализма в демократии, а не в монархии, замечая, «что в философии аутентическое толкование не имеет решающей силы и надлежит критически отнестись и к авторским выводам из собственных положений» [16, с. 2]. Мыслитель считает, что представление демократии как «соборного сверхчеловеческого единства власти», ограничивающего эгоистические интересы отдельных лиц, противоречиво и не соответствует ее реальной структуре. По существу демократический строй подразумевает доминирующее влияние частного интереса (во всяком случае, иногда). «Частными волями строится государство, – достаточно проследить историю любого правительственного кризиса» [16, с. 2], а демократия, как считает философ, характеризуется распадом целого на части и построением из частей. Далее Г.А. Ландау критикует позицию Н.О. Лосского относительно его недовольства отдельным человеком как носителем монархической власти, на это мыслитель замечает, что в демократии эмпирически власть осуществляется также через человека (президента или группу лиц). Вся разница только в подходе к избранию, в демократии – посредством личностей низшего уровня, а в монархии – посредствам личности высшего уровня.
В итоге Г.А. Ландау делает вывод, что «предпочтение наследственной монархии Божьей милостью вытекает из идеи Лосского же в противоположность его собственным выводам из них» [16, с. 3]. Мыслитель замечает, что любая философская концепция слишком далека от эмпирической реальности и попытки увидеть действительность производной от философии встречают множество преград и противоречий. «Философия нисколько не безразлична для политики, но она отнюдь не предопределяет политики простым логическим построением» [16, с. 3].
Сложно сказать, что именно повлияло на формирование такой позиции у Г.А. Ландау, юридическое образование или философское мировоззрение, налицо расхождение в мировоззренческих подходах. Но здесь можно отметить, что мыслитель является автором концепции философоло-гии3, в которой он высказывает мысль о том, что философские построения проистекают из сложного взаимодействия философем, мотивов мышления и эпохи. В этом проявляется попытка построить всеобъемлющую философскую систему, которая была практически неизвестна современникам. Например, И.С. Лукаш вообще относит Г.А. Ландау к противникам всяких философских систем [21, с. 3]. При всех расхождениях авторов относительно политической составляющей, можно найти сходство в понимании органичности как небиологичности. Только Г.А. Ландау применяет этот критерий к культуре, а Н.О. Лосский – к политическому устройству.
В дальнейшем Н.О. Лосский посчитал необходимым ответить на критические замечания Г.А. Ландау и в 1926 году опубликовал статью «В защиту демократии» [18]. Философ замечает, что такая трактовка его взглядов Григорием Ландау связана с недоразумением и сложностью поднимаемых вопросов. Мыслитель пишет: «Статья Г.А. Ландау показывает, что даже и весьма утонченные умы при обсуждении этих вопросов не настолько проникают в систему чужой мысли, чтобы подвергнуть ее имманентной критике, и, поэтому, я чувствую себя обязанным развить несколько подробнее то, что не доказано было мною раньше» [18, с. 370]. В первую очередь Н.О. Лосский говорит об ошибочном понимания производности монархии как государственного строя из концепции «иерархического персонализма». Фактическое наличие монарха не говорит о наличии в его власти сверхчеловеческого единства и как человеку юридически позволяет навязывать свои частные цели, в этом заключается неорганическая составляющая этого социального уклада. С точки же зрения органического понимания постепенно сверхчеловеческое единство проявляется в ограничении власти монарха или в установлении республиканской формы правления, это более высокая стадия органичности. «Иерархический персонализм, говоря о иерархическом строении общества и всего мира, имеет в виду не такую условную иерархию, как монарх, губернатор, исправник, а иерархию сущностную, онтологическую – Бог, вселенная, народ, человек и т.д.» [18, с. 372], здесь нужно разделять онтологическое и техническое равенство.
Отвечает Н.О. Лосский и на критику «ограничения частных интересов». Он не отрицает их наличия, но замечает, что частные интересы являются также элементом целого общества. Здесь происходит взаимодействие «личных и сверхличных интересов», и это взаимодействие объективно. Также мыслитель считает не состоятельными упреки в поглощении индивидуальности социальным единством, поскольку каждая личность в его «иерархическом персонализме» является носительницей творческой свободы. Творчество социального деятеля низшего порядка вливается в творчество личности высшего порядка для достижения стремлений сверхчеловеческого единства. «Когда отдельное лицо совершает социальный акт, через него говорит и действует социальное целое, однако, выражаясь в нем не целиком, а частично, так что полное осуществление социального акта получается не иначе, как в координированных действиях многих людей» [18, с. 375], примером этому, по мысли философа, может служить судебный процесс, война и т.п. Проиллюстрировал свою позицию Н.О. Лосский интересной метафорой: «Пушкин мог выразить своего “Бориса Годунова” не иначе, как путем множества мышечных сокращений; но не эти сокращения создают единство художественного произведения» [18, с. 376].
Подводя итоги, Н.О. Лосский отмечает, что его рассуждения об идеальном образе демократии не являются доказательством, что это лучшая форма правления. Органичность демократии и органичность монархии не могут быть достигнуты путем упрощенного понимания их сущности. «В абсолютной монархии создание единства власти, годной для управления государством, зависит от того, насколько мощно голос целого говорит в душе монарха, а в демократии – от того, насколько голос целого говорит в душе каждого гражданина» [18, с. 378].
Полемика с Н.О. Лосским была не первой в творчестве мыслителя. В 1922 г. на страницах той же газеты «Руль» развернулся спор Г.А. Ландау с евразийцами. Все началось с выхода в свет статьи П.Н. Савицкого «К обоснованию евразийства» [25]. Здесь автор пытался обозначить основные положения этого общественно-политического движения. На эту статью критически отозвался Г.А. Ландау. В статье «Евразийское самоутешение» [10] мыслитель пытается обосновать наивность выдвигаемых евразийцами положений и фактически обвиняет их в бездействии и выжидательной позиции по отношению к событиям, происходящим в России. На опубликованную статью Г.А. Ландау последовала жесткая реакция как П.Н. Савицкого [24], так и Г.В. Фло-ровского [26] и обвинение философа в нигилизме и поверхностном взгляде на евразийство. Последнее слово в этой полемике осталось за Г.А. Ландау который опубликовал статью «Именинники (ответ евразийцам)» [11]. Мыслитель отметил безответственность и легкомысленность излагаемых евразийцами взглядов. Эта заочная переписка вызвала большой скандал, но показала противоречивость настроений в среде русской эмиграции.
Стоит отметить, что критика евразийства находила свое отражение у многих авторов, даже Л.П. Карсавин в период своего доевразийского творчества выступал с критикой этого движения. В статье «Европа и Евразия» [7] философ говорит о внимании к теме «катастрофичности» со стороны основателей евразийства. Он отмечает их попытку обоснования утверждений научными методами, а фактически сведение доказательств к предчувствию, что выглядит неубедительно. «Евразийские темы в существе своем только фи-лософски-метафизическим путем и могут быть обоснованы. Тем печальнее, что философского обоснования пока у евразийцев мы не видим.
Есть отдельные, брошенные мимоходом философские мысли и характеристики» [7, с. 307]. Сходные претензии к евразийцам предъявлял и Г.А. Ландау. Кроме этого Л.П. Карсавин отмечает, что и «чувство катастрофичности» нельзя назвать исключительным для движения евразийства. В качестве примера он говорит об актуальности этой проблематики для нынешней эпохи, о которой писал О. Шпенглер («Закат Европы») и пишет Г.А. Ландау (здесь Л.П. Карсавин, по видимому, подразумевает работу «Сумерки Европы» [15]).
Вообще, работа «Сумерки Европы» считается основным и самым известным трудом Г.А. Ландау. Большая часть упоминаний мыслителя в философско-политической мысли русского зарубежья связана именно с ней. И.С. Лукаш в заметке по случаю выхода в свет «Эпиграфов» замечает, относительно малоизвестности «Сумерек Европы», что «в этом смысле Ландау не с нами, а как бы перед нами: это фигура будущей синтетической эпохи, которой налицо еще нет» [21, с. 3]. Здесь же необходимо отметить, что на «Сумерки Европы» написал обстоятельный отзыв С.И. Гессен, сказав, что «она слишком индивидуальна, чтобы ее можно было односторонне принять или столь же односторонне отвергнуть» [1, с. 437]. П.М. Бицилли в отзыве [3] на книгу французского философа Бертрана Жувенеля упоминает книгу Г.А. Ландау как характерную для своего времени. М.А. Алданов в отзыве [2] на работу Д.С. Мережковского «Тайна Запада. Атлантида-Европа» говорит о схожести его высказываний с идеями «выдающегося философа» Г.А. Ландау «еще в 1914 году предвосхитившим очень многое из того, что впоследствии принесло Шпенглеру его мировую славу» [2, с. 490]. Важно отметить, что тема сходства названий книги О. Шпенглера «Закат Европы» и работы Г.А. Ландау «Сумерки Европы» проходит красной нитью через творчество мыслителя. Здесь стоит отметить упоминание философа в книге Р.Б. Гуля «Я унес Россию» [5]. Во многом это раскрывает «сферу разговора» Г.А. Ландау, но не исчерпывает ее исследование.
Завершить статью я также хочу высказыванием Г.Г. Шпета: «…Я не может определять себя без помощи другого, …в собственном существовании Я удостоверяется через другого. Это и эмпирически, и существенно, и также: в эмпирическом бытии и в существе. И тут – метафизика любви» [6, с. 349]. Если применить эту мысль Шпета к истории философии русского зарубежья, то «метафизика любви» Г. Ландау – тема будущих историко-философских исследований.
Список литературы Философ русского зарубежья Григорий Ландау и его "сфера разговора"
- Sergius. Григорий Ландау. Сумерки Европы. Книгоиздательство «Слово». Берлин. 1923. 374 с.//Современные записки. Париж. 1923. № XVI. С. 436-444.
- Алданов М.А. Д. Мережковский. Тайна Запада. Атлантида-Европа. Белград. Русская Библиотека. 1931 г.//Современные записки. Париж. 1931. № XLVI. С. 489-491.
- Бицилли П.М. Bertrand de Jouvenel. Vers les Etats-Unis d'Europe. Paris, 1930, G. Valois (Bibl. Syndicaliste, xxi)//Новый град. Париж. 1932. № 4. С. 92-93.
- Гессен В. Г.А. Ландау: Необходимые уточнения//Вестник Еврейского университета в Москве. 1994. № 3. С. 189-192.
- Гуль Р.Б. Я унес Россию: Апология русской эмиграции: В 3 т. Т. 1. М.: Б.С.Г-ПРЕСС, 2001. 6.
- Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие./Отв.-ред. сост. Т.Г. Щедрина. М.: РОССПЭН, 2005.
- Карсавин Л.П. Европа и Евразия//Современные записки. Париж. 1923. № XV. С. 297-314. 8.
- Крейд Вадим. Чужой в каждом стане//Ставрополь-на-Волге -город -Тольятти. Городской литературный журнал. 2007. № 19. С. 292-303.
- Л. Григорий Ландау//Возрождение. 1937. 12 ноября. С. 3.
- Ландау Г.А. Евразийское самоутешение (Руль. 1922. № 353 и 355)//Записки русской академической группы в США. Нью-Йорк. 2011-2012. С. 328-340.
- Ландау Г.А. Именинники (ответ евразийцам) (Руль. 1922. № 376 и 378)//Записки русской академической группы в США. Нью-Йорк. 2011-2012. С. 348-358.
- Ландау Г.А. О мистическом опыте. Очерк систематической философологии//Записки русского научного института в Белграде. Белград, 1935. Вып. 2, С. 133-159.
- Ландау Г.А. О политике права (к теории прикладных наук). СПб.: Сенатская типография. 1906.
- Ландау Г.А. Объектные мотивы философских построений//Логос. 1913, № 3-4. С. 127-190.
- Ландау Г.А. Сумерки Европы. Берлин: Сло-во,1923.
- Ландау Г.А. Философия и политика//Руль. 1925. №. 1501 (от 7 ноября). С. 2-3.
- Ландау Г.А. Эпиграфы. Берлин: Логос, 1927.
- Лосский Н.О. В защиту демократии//Современные записки. Париж. 1926. № XXVII. С. 369-381.
- Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. М.: Советский писатель, 1991.
- Лосский Н.О. Органическое строение общества и демократия//Современные записки. Париж. 1925. № XXV С. 343-355.
- Лукаш И.С. Эпиграфы//Возрождение. 1930. 22 мая. С. 3.
- Мариниченко А.И. Статья «Сумерки Европы» Г.А. Ландау в контексте общественной реакции России на начало Первой мировой войны//Русская публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: политика и поэтика: исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 460-465.
- Повилайтис В.И. Философия культуры Григория Ландау//Вопросы философии. 2011. № 3. С. 101-108.
- Савицкий П.Н. Дела и призраки -I (ответ г. Григорию Ландау) (Руль. 1922. № 370)//Записки русской академической группы в США. Нью-Йорк. 2011-2012. С. 340-343.
- Савицкий П.Н. К обоснованию евразийства (Руль. 1922. № 349, 350)//Записки русской академической группы в США. Нью-Йорк. 2011-2012. С. 318-328.
- Флоровский Г.В. Дела и призраки -II (ответ г. Григорию Ландау) (Руль. 1922. № 374)//Записки русской академической группы в США. Нью-Йорк. 2011-2012. С. 343-348.
- Цветаева М.И. Нездешний вечер//Современные записки. Париж. 1936. № LXI. С. 172-184.
- Щедрина Т.Г. «Я пишу как эхо другого». Очерки интеллектуальной биографии Густава Шпета. М.: Прогресс-Традиция, 2004.