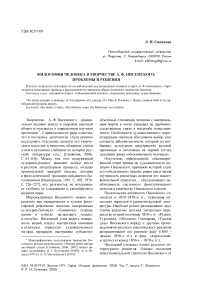Философия человека в творчестве А. Ф. Писемского: проблемы и решения
Автор: Синякова Л.Н.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.7, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье подводятся некоторые итоги наблюдений над концепцией человека в прозе А.Ф. Писемского. Определяются понятийные границы и рассматривается движение образа человека в творчестве писателя.
"родовой человек", "обыкновенный человек", социальное поведение, существование
Короткий адрес: https://sciup.org/14736975
IDR: 14736975 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи Философия человека в творчестве А. Ф. Писемского: проблемы и решения
Творчество А. Ф. Писемского сравнительно недавно вошло в широкий научный оборот и нуждается в современном научном прочтении 1. Справедливости ради отметим, что в последнее десятилетие стали активно исследовать отдельные аспекты его творческого наследия и включать обзорные статьи о нем в вузовские учебники по истории русской литературы (см.: [Синякова, 2006. С. 61–64]). Между тем этот незаурядный художник-реалист занимает особое место в русском литературном процессе, обладая оригинальной манерой письма, которая в филологической традиции называется бытописанием [Виноградов, 1961. С. 492; 1976. С. 226–227], что, разумеется, не исчерпывает глубины ее содержания и своеобразного видения мира.
Мировосприятие Писемского можно определить как эмпирическое и чуждое философской рефлексии: писатель воспринимал культурно-бытовую, «ближнюю» сторону жизни и избегал заглядывать «вдаль» и «вглубь». Писемский умел видеть поверхность вещей, владел мастерством описания и отличался зоркостью художественного взгляда, прекрасно выстраивал субъектно- объектные отношения человека с материальным миром и четко указывал на причинноследственные связи в масштабе повседневности. Особенности художественного миросозерцания писателя обусловили выбор того сегмента действительности, который он изображал: культурное пространство русской провинции и несложная на первый взгляд душевная драма «обыкновенного человека».
Отсутствие определенной, сбалансированной точки зрения на художническую позицию Писемского, причиной которой стало его «объективное» письмо, равно как и малая изученность различных аспектов его повествовательной стратегии, – обусловливают необходимость системного филологического подхода к творчеству Писемского в целом.
Писательская активность Писемского относится к 1850–1870-м гг., охватывая несколько периодов в развитии русской литературы. Наиболее резкое размежевание двух этапов реализма русская литература пережила во второй половине 1850-х гг. «Рудин» Тургенева, «Обломов» Гончарова, «Тысяча душ» Писемского наряду с другими произведениями русского классического реализма разграничивают его раннюю фазу (1840 – начало 1850-х гг.) и фазу «взросления» и зрелости (конец 1850-х – 1870-е гг.).
Писемский следовал логике русского литературного развития. Однако эволюция повествовательной стратегии Писемского от
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2008. Том 7, выпуск 2: Филология © Л. Н. Синякова, 2008
«гоголевской» к «толстовской» 2 не рассматривалась до настоящего времени 3. Путь Писемского от одной реалистической школы к другой скорее пунктирно просматривается, чем неоспоримо доказывается и непосредственно наблюдается. Писатель, совершивший эволюцию «от Гоголя к Толстому», осваивал не столько психологические возможности письма этих гениев и тем более не их философский «сверхтекст»: в силу эмпиричности своего мировосприятия, он был чужд системе философского логоцентризма. Писемский двигался от формулы «родового человека» в границах микросреды к формуле «общественного человека» в границах макросреды. По мере движения писатель освобождал человека от «диктата» предметного мира и ослаблял комизм положений и образов. Так же, как Гоголь, его молодой последователь соединял «смешное» и «ужасное» в едином смысловом пространстве и простирал этот «страшный смех» над русской провинцией. Исчерпав возможности гоголевского письма к концу 1850-х гг. и озаглавив свой поворотный роман – «Тысяча душ» – с оглядкой на творца «Мертвых душ», Писемский обратился к исследованию жизни человека в историческом континууме.
«Общественный человек» в художественной концепции Писемского не отменял одновременного присутствия в его природе «родового» начала. «Телесное» и «темное» в составе человеческой личности часто побуждает героев Писемского совершать поступки, не оправданные с точки зрения разумного и сознательного выбора. Герои романов Писемского 1860–1870-х гг., совмещая в своем внутреннем облике разноречивые и противоречивые интенции, вынуждены, кроме того, определяться в меняющемся историческом времени.
В ранний период творчества Писемский преодолевал заложенные в литературе 1840-х гг. стереотипы изображения человека. Он отказывается от двух, по сути взаимосвязанных, требований натуральной школы: от трактовки образа человека как исключительно социальной жертвы и от жесткой детерминации характера средой. Собственно, по этому пути в 1850-е гг. следовали все ведущие русские писатели, относимые к психологическому реализму в его различных модификациях, от Гончарова и Тургенева до Герцена. Каждый из крупных русских реалистов по-своему осмыслял проблему становления индивидуальности в границах социомира и культурного (национально-исторического) универсума того времени.
В прозе Писемского 1850-х гг. человек преимущественно жертва среды, однако в немалой степени страдающий из-за своих личных слабостей: безволия («Тюфяк»), мечтательности («Боярщина»), покорности («Виновата ли она?») или, в комическом варианте «страданий», – заурядности («Брак по страсти»). Писемский видит несовершенство натуры человека в его зависимости от факторов психолого-физиологического порядка, таких, как воля, желание, побуждение, наследственность и темперамент. «Природа» одолевает человеческую волю, и человек начинает себя вести «неправильно», т. е. нарушает прежде всего личную этическую конвенцию, корректирует «координаты» добра и зла в пользу последнего – родового и темного начала в его существе. Наиболее яркий пример победы природного хаоса над социальной регламентацией в человеческой натуре можно обнаружить в характерах Павла Бешметева («Тюфяк»), Лидии Ваньковской («Виновата ли она?») и Якова Васильича Калиновича («Тысяча душ»). У «позднего» Писемского преобладание «природного» начала над социально ориентированным в душевной конституции человека станет еще заметнее и в конце концов приведет главных героев его романов 1870-х гг. к философскому самоубийству, поскольку разлад этих начал грозит им утратой единства образа мира и цельности личности («В водовороте» и «Мещане»).
Центральный концепт в прозе Писемского – «обыкновенный человек». Еще в 1850 г., готовясь к публикации повести «Тюфяк», писатель объяснял: «Главная моя мысль была та, чтобы в обыденной и весьма обыкновенной жизни обыкновенных людей раскрыть драмы, которые каждое лицо переживает по-своему» [Писемский, 1936. С. 27]. В этом признании заложена формула реализма Писемского: человек неотделим от среды, но «внутри» среды он разобщен с другими необходимостью переживания собственной драмы. Триединство драматических начал жизни (сюжетно воплощенных как драматическое событие), судьбы человека и неизменности среды, хранящей матрицу социальной и моральной стагнации, особенно заметно в раннем творчестве писателя. В 1860–1870-е гг. содержание формулы усложняется: событие «перерастает» в биографию и развертывается в длительность человеческой жизни; герой становится социально активным и на протяжении жизни передвигается от одной среды к другой; сама среда, как социальная структура, становится динамичной и открытой.
Применительно к ранним произведениям Писемского категория «среды» понимается как локальная и социально недифференцированная микросреда (уездное, реже губернское «общество»). Для Писемского характерно восприятие среды в качестве скорее культурного, нежели социального феномена. Писатель остался летописцем нравов «среднего» и «средне-низшего» культурных слоев русской жизни 1850–1870-х гг. даже тогда, когда он в своих общественных романах «проникал» в кабинеты сановников и гостиные высшего света. Его титулованные особы в подавляющем большинстве случаев говорят и мыслят так, как незначительные помещики, кругозор которых ограничивается губернскими новостями и видами на урожай. Конечно, такая культурная аберрация объясняется хорошим знакомством писателя именно с тем кругом жизни, который он привык описывать, – субкультурой русской провинции 4.
Наиболее показательно в качестве иллюстрации «культурологии» Писемского исчерпывающее изображение и развенчание типа уездного романтика 5. Если его заслуживающие сочувствия герои-страдальцы наделены индивидуализирующей психологичностью, то псевдоромантики выписаны в иной понятийно-стилевой сфере. Шамилов («Богатый жених»), Эльчанинов («Боярщина»), Бахтиаров («Тюфяк»), Батманов («Mr Батманов»), как люди без души, лишены психологической индивидуализации. «Внешнее», кажущееся и показное в них исчерпывает весь образ – содержательный план в структуре их характера отсутствует; но и «внешнее» не первично, а вторично. Все эти «участники процесса бытия», по сути, стоят вне бытия, довольствуясь подражательной ролью, которая давно стала культурной маской и плотно срослась с их обликом. Ни одно их движение, действие или поступок не являются самостоятельными и тем более выстраданными; погруженные в смысловое пространство романтической беллетристики («литературный маньеризм» Марлинского или, в крайних случаях, – «неистовство» Сенковского), антигерои Писемского выносят «литературу» в «жизнь».
Писемский изображает не литературный, а культурно-исторический, даже бытовой тип русского провинциального романтика. Этот герой феноменологичен: его сущность сводится к самовыражению в позе, жесте и речи (всегда «чужой», книжной). Будучи удручающе тривиален, он выстраивает свою жизнь по образцу массовой романтической литературы. Несмотря на демонстративное дистанцирование от уездной «толпы», псевдоромантики Писемского объединены с обывателями в главном качестве – пошлости мировосприятия, делающей низкое высоким, а подлинно высокое – смешным и слабым.
В крупных романах Писемского 1860–1870-х гг. развертывается панорама общенациональной жизни, мыслимой в категории общественных нравов. «Среда» расширяется до размеров «общества», выстраивается по вертикали и дифференцируется по горизонтали. «Обыкновенный человек» преобразуется в деятеля (или статиста – в зависимости от личностных качеств) истории. Меняются обстоятельства его жизни –
«быт» становится «историей». Сюжетное время простирается в границах всей человеческой жизни. Биография героя становится человеческим «эквивалентом» общественной истории, наблюдаемой автором, как обычно, в ее культурно-бытовом статусе. В романах 1860-х гг. писатель создает два симметричных характера «человека сороковых годов»: один собирает в себе отрицательные черты типа – инерционность, эгоизм, самолюбование, фразерство, неспособность к практической деятельности (Бакланов, «Взбаламученное море»), а другой аккумулирует его лучшие черты и в результате значительно трансформирует значение титульного термина (Вихров, «Люди сороковых годов»). Вихров и его единомышленники выражают историческую правоту в предреформенных условиях, являясь, по сути, пропагандистами теории «малых дел» и отстаивая либерализм в государственных институтах. Тем не менее оба героя принадлежат к числу «обыкновенных» людей, в историко-культурной конкретизации – к «людям сороковых годов».
«Обыкновенный человек» совмещает в своей природе три свойства, необходимые в антропологии Писемского для осуществления полноты жизненного процесса: биологическую составляющую (область влечений), социальную маркированность (область социальной самоидентификации) и философскую телеологию (смысл и цель жизни). Относительно третьего компонента этой антропологической формулы отметим, что он практически не рассматривался не только в составе философии человека у Писемского, но и в составе конституирующих признаков его реалистического письма: еще современная критика пришла к выводу, что человек у Писемского лишен цели жизни и тем более ее высшего, символико-концептуального выражения – идеала. В дальнейшем этот тезис не комментировался и по умолчанию считался каноническим.
Вместе с тем почти все герои Писемского страдают не от отсутствия смысла жизни, а от ощущения ее незаполненности смыслом, ее неосуществимости в качестве философского вызова сложившемуся порядку вещей. Поэтому поиски смысла жизни в большей или меньшей степени отличают героев его романов 1860–1870-х гг. Поисками смысла жизни, зачастую в авантюрном модусе, занят скучающий Бакланов; Вихров, отмеченный своей принадлежностью к «лю- дям сороковых годов», видит смысл жизни в улучшении нравственного состояния общества и по мере сил способствует этому. В романах 1870-х гг. «В водовороте» и «Мещане» писатель создает тип «ищущего героя», присущий русскому реалистическому роману того времени («Анна Каренина» Л. Толстого, «Новь» И. С. Тургенева, «Обрыв» И. А. Гончарова, «Подросток» Ф. М. Достоевского). Герои названных романов Писемского гибнут, поскольку автор решительно не находил онтологических оснований для продолжения процесса жизни, лишенной смысла.
В философии человека понятие цели связано прежде всего с наличием «высшей идеи». Жизненную цель имеют, по нашим наблюдениям, только три героя Писемского: Бешметев («Тюфяк»), Калинович («Тысяча душ») и Марфин («Масоны»). Представление героев о том, ради чего следует жить, расширяется от романа к роману: Бешметев мечтает о профессорской кафедре, т. е. личном, пусть и нематериальном, благополучии; Калинович хочет реформировать государственные учреждения, осуществляя свою бюрократическую утопию; Марфин стремится переделать мир на началах справедливости, веры и мистического знания (в том числе самопознания). Все три адепта «высшей идеи» терпят крах, причем Писемский, связывая «высшую идею» с «низшим», биологическим существом человека посредством «проведения» этой идеи через субстанции быта и социальной культуры, объясняет крушение жизненной цели своих героев, наряду с прочими причинами, их психофизиологической несостоятельностью. Если отвлечься от фактора «среды» и неблагоприятных (драматических) обстоятельств, то получится, что причины жизненных невзгод Бешметева – слабая воля, легкая внушаемость и склонность к пьянству; Калиновича постигла неудача в карьере вследствие его намеренного отказа от сферы «чувств» 6; Марфина сразили слабое знание жизни и намеренный аскетизм, т. е. все та же воз- держанность в коммуникативно-эмоциональном плане 7.
«Обыкновенный» человек в ранних произведениях Писемского был пассивен: во-первых, ему отводилось слишком узкое жизненное пространство – микросреда; во-вторых, его биографическое время совпало с историческим безвременьем. Эпоха 1860-х гг. выдвигает из числа «обыкновенных» людей тип деятеля. Первый активный герой в творчестве Писемского – Калинович. Попытка социальной самореализации не увенчалась успехом, потому что Калинович отрекся от «личного», от сферы «чувств»: отвернулся от семейства Годневых, предал Настеньку и заключил выгодный брак с Полиной Шеваловой. В данном случае «социальное» подавило «биологическое» и человек не выдержал своего существования в качестве «социального механизма». В романах 1860-х гг. и Бакланов, и Вихров действуют: Бакланов – повинуясь общественнополитической моде; Вихров – по убеждению. Жизнь Бакланова наполнена беспорядочным блужданием по кругам социальной действительности; столь же беспорядочен он в метаниях между благородной Евпрак-сией и беспутной Софьей Леневой. Социальное его существо и существо биологическое одинаково деструктивны. Вихров, состоявшийся как гражданин и писатель, все же успокаивается в сфере «чувств»: скорее это бегство в «личное» и «обыкновенное» из социального пространства русской жизни переломной эпохи.
В романах «В водовороте» и «Мещане» Писемский отказывается от изображения «обыкновенного человека». В числе многих причин «смены героя» можно назвать углубляющееся разочарование писателя в социальной действительности и, соответственно, поиск высших, внесоциальных, ценностей. Такими ценностями предстают христианское смирение («В водовороте») и идея «рыцарства», как комплекса нравственных ориентиров для человека, не принимающего «хищной», «мещанской» современности («Мещане»). Князь Григоров («В водовороте»), человек незаурядный, неофит в сфере позитивизма, не может смириться с тем, что человек – существо материальное, – но и не соглашается с тем, что «новый Адам», человек духовный, способен преодолеть нравственное безобразие «ветхого Адама». Рассудок князя не в состоянии примирить противоположные истины, одну из которых следует назвать ложью. Проблема выбора оказывается для героя романа трагической – он заканчивает жизнь самоубийством. Торжество христианской морали, однако, не безоговорочно: кроткая княгиня Григорова так же несчастна, как и остальные – верующие и неверующие – персонажи. Человек Писемского остается покинутым в безбожном мире, и личная вера его не спасает. Философский пессимизм писателя углубляется в следующем романе – «Мещане». Мыслящий герой, последний представитель культуры «рыцарства», манифестировавшей идею служения красоте и истине, не находит в современном мире ни красоты, ни истины. Писемский оставляет человека без Бога, без истины и бесконечно одиноким.
В последнем романе – «Масоны» – Писемский возвращается к типу «обыкновенного человека». Попытавшись воплотить человека идеального в образе Марфина, писатель убедился, что такой человек отчужден от «живой жизни». Аггей Никитич Зверев – своего рода антагонист Марфина – обретает истину вне масонства и вообще вне теории жизнестроения. Он – «практик» жизни; оставив бесполезные поиски, он приходит к выводу, что истина – это сам процесс жизни. Писемский утверждает конечную истину «живой жизни» и «обыкновенного человека» как ее субъекта и творца.
Подведем итоги. Природа человека, по Писемскому, представляет собой сочетание двух феноменологических качеств: биологической и социокультурной детерминации – и онтологической субстанции. В эволюции творчества писателя содержание этих категорий, за исключением биологиче- ской константы, видоизменяется: социокультурный компонент трансформируется от преимущественно «бытового» в культурно-исторический; бытийный, в раннем творчестве подвергнутый феноменологической редукции, в романах 1860–1870-х гг. осмысляется как «заброшенность» челове-ка-в-мире. Отсюда постановка проблемы выбора, осмысляемой как необходимость поиска смысла жизни. Философский поиск смысла жизни приводит героев Писемского к осмыслению пустоты бытия. Однако «обыкновенный человек», по убеждению писателя, способен преодолеть бытийную обреченность в прагматике частной жизни.