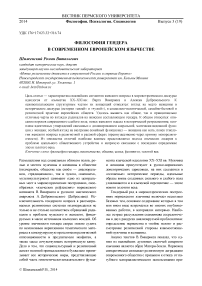Философия гендера в современном европейском язычестве
Автор: Шиженский Роман Витальевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (19), 2014 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - характеристика важнейших сегментов женского вопроса в мировоззренческом дискурсе идеологов от язычества XX-XXI вв.: Варга Викернеса и Алексея Добровольского. К основополагающим структурным частям их концепций относятся: взгляд на место женщины в историческом дискурсе (истории «своей» и «чужой»), в социально-политической, семейно-бытовой и религиозной практике европейских обществ. Удалось выявить как общие, так и принципиально отличные черты во взглядах радикалов на женскую составляющую гендера. К общим относятся: описания пороков современного слабого пола; поиск женского идеала в исторической ретроспективе; комплекс идентичных утверждений связанных с доминированием сакральной, магически-ведовской функции у женщин; особый взгляд на внутренне семейный функционал - женщина как мать; поиск этиологии женского вопроса в религиозной и расовой сферах (преимущественно через критику монорелигиозности). Из множества отличий наиболее важным представляется подход языческих лидеров к проблеме идеального общественного устройства и напрямую связанное с последним определение эпохи золотого века.
Короткий адрес: https://sciup.org/147202995
IDR: 147202995 | УДК: 176+17.023.32+316.74
Текст научной статьи Философия гендера в современном европейском язычестве
Размышления над социальным обликом полов, ролью и местом мужчины и женщины в обществе (подчеркнём, обществе как своём — диаспораль-ном, «традиционном», так и чужом, «внешнем», мультикультурном) занимают одно из центральных мест в мировоззренческих построениях, своеобразных «языческих рефлексиях» норвежского нативиста В. Викернеса и русского мистического анархиста А. Добровольского (Доброслава). Исключительность гендерного вопроса в рассматриваемых религиозных системах подтверждается не только и не столько количеством обращений радикалов к проблеме мужского и женского, фиксируемых в массе источников языческих вождей. Об уровне значимости гендера скорее можно судить по неизменным вкраплениям тематического материала в конструируемую прозелитами религиозной оппозиционности и предлагаемую неофитам, а также массе сочувствующих историческую канву. Дело в том, что социокультурный и религиозный аспект половой принадлежности буквально пронизывает все исторические миры, представляющие собой часть гипотетически-доказательного фунда мента языческой идеологии XX-XXI вв. Мужчина и женщина присутствуют в русско-норвежских доисторических зарисовках, на них ссылаются в «осязаемые» исторические периоды, идеальные образы вновь созданных сильного и слабого пола улавливаются и в языческой перспективе — эпохе нового золотого века.
Гендерный ряд в мировоззренческих построениях норвежского язычника включает несколько базовых тем, основное содержание которых в том или ином виде встречается во многих опубликованных работах, в материалах интервью. Наиболее острые рассуждения скандинава сосредоточены в двух ракурсах анализируемой проблематики: определение первенства в «войне полов» и рассмотрение религиозной стороны взаимоотношений мужчины и женщины.
Анализ текстов В. Викернеса показал, что одним из важнейших духовных светочей северного язычника является образ Матери-Земли. Норвежец синкретически связывает религиозную деградацию современного общества с призывом к отказу от пагубного материалистического использования при-
родных недр. В частности, язычник пишет о необходимости возвращения уважения человечества к природе, поиске духовности именно в окружающем людей универсуме. Искомое мировоззрение музыкант планирует воссоздать за счёт ритуалов — религиозной практики. Вкладывая в образ родной планеты пантеистическое начало и отвергая идею посмертного рая, этнорадикал призывает своих читателей «жить здесь и сейчас и в будущем на нашей красивой Матери-Земле» [3, с. 89]. Несмотря на подчёркнуто культовое отношение скандинавского язычника к женскому божеству — земле (матери-природе), Викернес придерживается идеи разности мужского и женского в религиозных представлениях его предков. Он выстраивает божественную иерархию, высшим идеалом которой становится отнюдь не женский элемент: «...мы — и земные, и божественные существа; наши тела рождены от Матери-Земли, но наш разум (или так называемые “души”) рождён от Буре... бога неба— и тогда как разум стремится домой (в Асгард), тело держит его на Земле до тех пор, пока мы не очистимся и не усовершенствуемся в достаточной степени» [2]. Следовательно, мужское = духовное в мировоззренческой картине мира В. Викернеса превалирует над женским = земным. В подтверждение своей гипотезы норвежец прибегает к помощи своего «источнико-вого конька» — скандинавской мифологии. Рассказывая о роли и значении валькирий, отнюдь не второстепенных мифических образов северных мифов, создатель норвежского языческого фронта подчёркивает зависимость, в какой-то мере божественную неполноценность сакральных женских дружин. Крылатые девы полностью подчиняются Одину, главные обязанности валькирий — снабжение воинов ратной амуницией и прислуживание за столом во время праздничных пиров [3, с. 6870]. Безусловно, северный музыкант отмечает как воинскую, так и магическую «службу» женской когорты Валгаллы, однако данные обязанности «богатырш» на страницах «Скандинавской мифологии» выглядят если не второстепенными, то вторичными по отношению к «традиционным» занятиям женской половины человечества.
Доминирование мужского над женским ещё более усиливается, приобретает открытые формы при обращении Викернеса к историческому материалу. Рассуждая на тему «войны полов», скандинавский писатель строит свою систему гендерных отношений. Так как в данной системе основа мужского величия была заложена во времена «доистории», весьма интересным выглядит не большое путешествие, своеобразный исторический спуск, с помощью которого можно будет в полной мере представить роль мужчины и женщины в мире пропагандиста скандинавской альтернативной религиозности.
Излагая свою точку зрения на современное положение социальных полов, В. Викернес весьма критично высказывается о женщинах XXI в. В интервью 2005 г. после весьма интересной преамбулы, включающей утверждение о равенстве полов при их разности и весьма интересной фразы: «...о женщинах я могу сказать только хорошее, но я не могу сказать ничего хорошего о современных женшинах» [12], норвежец перечисляет пороки сегодняшнего слабого пола. Таблица женских минусов, обнаруженных северным язычником, включает: развращённую культуру (отказ от приготовления пищи, нежелание иметь детей и семьи в целом), набор признаков, позволяющих стать «как мужчины» (жажда получения теоретического образования, мужские профессии, «мужской внешний вид»), В заключение норвежец констатирует: «Истинные женщины абсолютно равны мне, я их обожаю и уважаю, но современных женщин я вижу отвратительными, примитивными и испорченными животными, или лучше — недочеловеками» [12]. Далее, возможно, пытаясь смикшировать сказанное, отмежёвываясь от ярлыка мужского шовиниста, норвежец обращает внимание и на испорченное состояние современных мужчин (сильный пол Викернес сравнивает с больными собаками, находящимися в стадии скорого усыпления) всего человечества. Особо следует отметить, что корень презираемого северянином феминизма последний находит в «иудеохристианской (анти) культуре», уничтожающей здоровую половую жизнь [1, с. 32].
Возникают закономерные вопросы: если сегодняшние женщины не устраивают скандинавского pagan-мыслителя, то существует ли в мировоззрении Викернеса идеал северной девы? Если да, то каковы критерии женского совершенства? Что предлагает норвежец взамен отрицаемому феминистскому = монорелигиозному? В цитируемом выше интервью скандинав называет, хотя и весьма условно, золотым веком «истинных» женщин эпоху Древней Скандинавии. Единственным ориентиром, позволяющим хронологически очертить правильную древность, становится всё тот же религиозный фактор. Для Викернеса, отрицающего ав-раамическую религиозность априори, искомым временем искомых женщин становится языческий, следовательно, практически безвременный период родной истории. Набор качеств, необходимых, по мнению музыканта, настоящей женщине, во-первых, включает подборку антонимов пороков слабой половины человечества, выявленных самим Викернесом, во-вторых, они базируются на взглядах скандинава, обращённых в историю, «историю с женским лицом». Спуск по исторической лестнице женского вопроса у норвежского этнорадикала имеет ярко выраженный скоростной характер. Глубоко не вдаваясь во временные вопросы, смену исторических эпох, создатель норвежского языческого фронта концентрирует внимание на преступлениях носителей новой веры — «азиатского христианства», когда, по словам скандинавского мыслителя, были сожжены миллионы европейских женщин и девушек [3, с. 88, 171]. Религиозная составляющая женского гендера становится первостепенной в языческой истории норвежского писателя. Викернес признаёт представительниц прекрасной половины человечества искусными магами, чья сила была (есть, будет?) сосредоточена в духе и эмпатии. Однако, практически полностью отдав женщинам сакральную власть в идеализированном языческом прошлом, скандинав даже в области магического ставит служительниц Фрейи в зависимое положение от духовенства мужского — жрецов (сейдманов) [3, с. 173].
Другую составляющую женского идеала, напрямую связанную со сферой духовной, северный язычник находит в девичьей невинности. Именно чистота становится «градусом», «физическим мерилом», позволяющим женщине занимать должное и достойное социальное положение в золотом веке прошлого [1, с. 34]. Итак, обрисовав искомый идеал — деву-жрицу, норвежец находит применение «смертным богиням». Женщины должны выполнить свою главную функцию — материнскую, стать «символами жизни». Оставаясь верным законам евгеники, расовой гигиены, Викернес на примере изменения цвета глаз рассуждает о необходимости введения института полигамной семьи, причём исключительно в виде многожёнства [1, с. 68]. Аргументальный ряд в защиту подобного семейного союза базируется на религиозно-расовых установках: арийской чистоте языческой девы-матери. Внутрисемейный кодекс, в представлении нашего героя, наполнен чисто мужским звучанием. Измена мужу карается смертной казнью. Женщины, лишённые девственности вне брака, разведённые и вдовы, пытающиеся выйти замуж вновь, в гендерной философии норвежца приобретают статус изгоев — «грязных женщин», неполноценных членов социума [1, с. 33-34]. Несмотря на признание нор вежцем сакральности, духовности, наконец, божественности женского образа, назначение последнего не выходит за рамки служения образу мужскому. Женщина — лишь часть целого, фрагмент, пусть и весьма важный [1, с. 34].
Основу взглядов Викернеса на гендер следует искать в его трактовках истории противостояния двух знаменитых форм первобытно-общинных отношений — матриархата и патриархата. Наиболее полно рассматриваемые представления скандинавского язычника отражены в разделе «Возраст богов» одной из основных его работ «Скандинавская мифология и мировоззрение»: «Женская натура пассивна и вполне согласуется с консерватизмом, который ищет уверенности в том, что есть, в то время как мужская натура — это быть активным и искать развития и улучшения; мужчина желает ставить на кон свои жизнь и здоровье в попытке их улучшить. Поэтому культурное развитие и наука впервые продвинулись вперёд, когда общество двинулось от матриархата к патриархату. Чем больше мужчины доминируют в обществе, тем больший прогресс осуществляется в культуре и науке» [3, с. 196].
Безусловно, гендерная концепция В. Викернеса не является стопроцентным оригинальным материалом автора. Да, скандинавский «мифологический налёт», собственная трактовка образов древних мифов могут быть отнесены к личному творчеству скандинава, но корни главной идеи — безоговорочное доминирование мужчины — следует искать в источниках иного происхождения. Последние включают интеллектуальный багаж мыслителей, относимых исследовательским сообществом к ариософам, традиционалистам, консервативным мыслителям ит.д., и т.п. Как отмечает сам Викернес, одно из центральных мест в списке «людей, о которых я очень высокого мнения» [12], занимает писатель барон Юлиус Эвола.
Возможно, именно работы итальянского философа-традиционалиста сыграли решающую роль в становлении норвежца как крайнего антифеминиста. В данной связи весьма показательна статья Ю. Эволы с говорящим названием «Феминизм и героическая традиция», написанная автором в 1933 г. Относя феминизм к признакам вырождения, философ отмечает и последствия введения социального равенства полов, перечень которых характерен и для размышлений В. Викернеса [16, с. 170]. Кроме того, в ряде других статей Эвола неоднократно подчеркивает древность и неарийское происхождение гинекократии (цивилизации женщин). Преобладание женского над мужским, встречающееся в исторических культурах, однозначно расценивается итальянским мыслителем как «искажение нормальных отношений, свойст-веных традиционному порядку в его чистом и абсолютном состоянии» [15, с. 113]. Отсюда выводимый из матриархата пантеизм, преподносимый Эволой как «бесформенное освобождение, вырываемое в беспорядочных опытах», соотношение женского с лунными и хтоническими элементами, в противоположность мужским — ураническим [14, с. 180-181].
К числу возможных учителей В. Викернеса в плане гендерных отношений можно отнести и известного австрийского оккультиста Гвидо фон Листа, однако лишь отчасти. Так, мистик европейского языческого возрождения XIX-XX вв. разделяет точку зрения норвежца о превалировании в германских женщинах религиозного начала, но вместе с тем по-иному смотрит на институт арийского брака. Да, Г. фон Лист, подобно Ви-кернесу, заявляет о так называемом законном союзе — браке женщины только с одним мужчиной, запрете внебрачных связей. Говорит о необходимости соблюдения расовой чистоты, законном отказе смешанных браков. Вместе с тем австрийский мистик отвергает столь желанное Викер-несом многоженство, институт полигамной семьи [11, с. 146-147].
Наконец, третьим «наставником» основателя норвежского языческого фронта в интересующем нас вопросе следует признать французского писателя второй половины XIX в. графа Ж.А. де Гобино. Прежде всего отметим тот факт, что на страницах своего основного «расового труда» граф высказывает идею в духе мужской геге-монизации Викернеса о существовании на земле «мужских» и «женских» (феминизированных) рас. «Если исключить тевтонское семейство и часть славян, на нашем континенте останутся только группы, скудно наделённые прагматическим чувством, которые уже сыграли свою роль в предыдущие эпохи, и повторить это им больше не дано» [5, с. 93]. Расставив приоритеты в расовом вопросе, поделив население Европы на расы «мужские», «женские» и констатируя «хронологическую смерть» феминизированных рас прошлого, автор переходит от общего к частному, обращается к характеристике идеальной семьи арийца-германца. Гобино, как вслед за ним (?) и норвежец, помещает желанную ячейку германского общества в хронологическое безвременье, в некие времена выхода арийцев из Верхней Азии. Образ главы арийского семейства на страницах «Опыта» представлен в полной «деспотической красе». Далеки от однозначности и выводы мыслителя XIX в. о прямой зависимости процента арийского элемента у народа от женского авторитета в обществе [5, с. 654].
Помимо гендера расового и «гендера обычного» роднит мысли Викернеса и Гобино и взгляд на роль полов в религиозном аспекте. Женщины севера, в представлении французского писателя, отвечали за медицинские знания, вели колдовскую и магическую практики [5, с. 654].
Рассмотрев основополагающие идеи гендерного вопроса В. Викернеса и определив возможные источники его происхождения, обратимся к социальной роли полов в интерпретации А.А. Добровольского. Проблемный ряд сферы мужского и женского вятского панентеиста в целом совпадает с вопросами, раскрываемыми норвежским этнорадикалом. Новой опцией, вводимой Доброславом в исследуемую проблематику, является образ «девы воинствующей», отсутствующий в построениях Викернеса.
Обзор работ Добровольского, непосредственно раскрывающих суть религиозной стороны взаимоотношений полов, позволяет утверждать, что «пантеоны» русского и северного язычников при одинаковом составе значительно разнятся в плане иерархии. Взамен второстепенной роли Матери-Земли и безграничной власти мужских богов северного Олимпа Доброслав строит славянский божественный мир, ставя во главу сонма высших сил именно женское начало. По мнению отшельника, культ живой земли — великой богини жизни не только общеиндоевропейского единства, но и «всего юного человечества» уходит своими корнями во времена изначального матриархата [10, с. 31].
Если во взглядах на мифологическую функцию мифологических полов наши герои не только далеки друг от друга, но и прямо противоположны, то описание современными язычниками религиозной составляющей женщин реальных, исторических во многом являет собой пример мировоззренческого единства. Одной из важнейших особенностей, «обнаруженных» в слабом поле и В. Викернесом, и А. Добровольским, становится женская сакральность, способность, в отличие от мужчин, мыслить потусторонними категориями. Добровольский обращается и к конкретным мифическим примерам. Он наделяет сказочный персонаж — Бабу-Ягу даром шаманизма, «профессией» детского воспитателя, «блюстительницей родовых обычаев и руководительницей женских посвятительных обрядов» [10, с. 69-70]. По-своему используя сравнительно-исторический метод, русский языческий лидер привлекает к системе доказательств и примеры женщин-прорицательниц из древней германской истории [6, с. 82-83].
Ещё одной общей темой гендера, безусловно, следует признать обвинения, предъявляемые норвежско-русским «языческим тандемом» служителям христианской церкви. Основа обвинений — инквизиционные преследования слабой половины человечества. Если в сочинениях Викернеса осуждение ревнителей экстрамер по колдовским, равно женским, процессам занимает в общей сложности несколько строк, то в работах Добровольского аналогичные деяния представлены намного масштабнее. Используя большое количество зарубежных иллюстративных примеров, идеолог нового русского язычества особое внимание обращает на женоненавистническую практику средневековых охотников на еретиков, основываясь на которой ставит диагноз определённой части служителей церкви [8, с. 102-104]. Исходя из данных текста, позиция автора выкристаллизовывается на сто процентов. Во-первых, женщина (дева) — основной хранитель и транслятор «знаний для посвящённых»; во-вторых, в религиозных преследованиях Средневековья женская половина человечества пострадала значительно больше, нежели мужская; в-третьих, основной источник неравноправия — монорелигиозность в лице многоконфессионального христианства.
Последнее, что объединяет этнорадикалов во взглядах на социальное положение женщины, — функция воспроизводства, деторождения. Подчёркивая исключительную важность материнства, продолжения рода, вятский мистик связывает это и даже ставит в прямую зависимость от религиозной, природоцентричной составляющей [8, с. 97].
Если антихристианство Доброслава, даже в гендерном вопросе, следует расценивать как мировоззренческую константу, то на какой платформе строится данная постоянная? Ответ — в рассмотренной выше «войне полов» — эпохе перехода от матриархата к патриархату. Причём, называя одно «событие» в качестве исходного, Викернес и Добровольский подходят к его итогам с абсолютно противоположных позиций. В отличие от скандинава, вятский мыслитель именно с матриархатом связывает истоки человеческой культуры и потерянный, а возможно, и искомый золотой век. Опираясь в своих построениях на гипотезу немецкого социолога Э.З. Фромма о первобытном матрицентризме, Доброслав заявляет: «Никакого “засилья” женщин не было. Власти, как таковой, не было; о насилии, принуждении, навязывании кому-либо чужой воли не могло быть и речи, когда Женщина находилась в центре общественной жизни... Матерь была скорее Божеством, чем начальством; она ассоциировалась с Матерью-Землёй, и вокруг неё строилась и вся семейная, и вся социальная жизнь» [7, с. 15-16]. К первобытному = матриархальному обществу писатель относит и эпоху равенства полов. Соответ- ственно, с приходом патриархата, по Добровольскому, начинается период открытия земледелия и скотоводства, мужчина приносит в мир «уродливые порождения» — государство и искомый нами монотеизм. Кроме того, исходя из концепции матрицентризма, Доброслав значительно расширяет сферу женской деятельности, вступая в прямое столкновение с тезисами Варга об ограниченном функционале слабого пола. Отечественный языческий просветитель покушается на главное (по Викернесу) мужское занятие — войну. Девушки-революционерки, террористки, боровшиеся с царским режимом, на страницах одной из последних работ А.А. Добровольского преподносятся как героини, боровшиеся с любыми проявлениями деспотизма [9, с. 33-35].
Не останавливаясь на «книжных институтах», собственном опыте лесного затворника, что способствовало формированию матриархальноцентрических взглядов А.А. Добровольского, выделим одного из авторов прошлого, чьи мысли, как отметил сам Доброслав, весьма близки ему в интересующем нас аспекте. Речь идёт о профессоре Германе Феликсе Вирте, который специалистам известен как глава общества Аненербе (Наследие предков). Кроме того, Вирт — автор ряда исследований («Священная прото-письменность», «Происхождение человечества»), издатель и ярый защитник древнефризской рунической книги (подлинность которой вызывает большие сомнения) «Хроника Ура Линда» [4]. Изучение текста последней (в переводе и с комментариями А.В. Кондратьева) позволяет определить общее, а местами и полностью идентичное в концептуальных построениях Г.Ф. Вирта и А.А. Добровольского.
Эпоха мифического «золотого века», райских времен ассоциируется у Г.Ф. Вирта и А.А. Добровольского с господством матриархата. В комментариях к тексту «Хроники» профессор отводит управлению, сосредоточенному в руках «почётной матушки» и «дев-градоправительниц», важнейшую роль. Главное в данной системе не столько степень влияния фризских избранниц на социально-политическое развитие своего народа, сколько приписываемые последним сакрально-культовые функции. «Культ являлся... делом общественным, государственным и государственно-упорядоченным: он находится в руках женщин. А та из этих женщин, которая призывает возглавлять и сохранять культовый порядок, оберегать народную традицию ит.д., несёт на себе тем самым высочайшую ответственность за управление государст вом» [4, с. 276]. Подобное общественное устройство Вирт называет демократией, именно эту матриархальную общину он считает союзом и свободных, и равных (первобытный анархо-коммунизм, по А.А. Добровольскому).
В обеих декларируемых системах переход власти от женщин к мужчинам, эра господства патриархата мыслится как регресс, конец земного рая. Профессор, как и языческий дидаскал, считает приход новой чужеродной власти, основанной на новых религиозных воззрениях, одним из главных атрибутов, разрушающих традиционную архаику. Весьма близки у рассматриваемых персоналий и хронологические рамки расцвета материнского культа. Добровольский не единожды пишет об открытиях человечества времён первобытного, равно — женского, века. Вирт прямо заявляет: «...культ mat res или matronae, “Белых” или “Мудрых” Дам, “народных матушек”, принадлежит изначально культуре мегалитических гробниц широкого круга Северного моря» [4, с. 282].
Подведём некоторые итоги. Во-первых, анализ гендерного вопроса в мировоззрении В. Викернеса и А.А. Добровольского показал значительный процент «женского материала», рассмотренного и интерпретированного авторами. Во-вторых, данные текстов европейских язычников позволяют выделить сегменты, составившие в итоге образ женского пола двух этнорадикалов. К основополагающим структурным частям обеих концепций относятся: взгляд лидеров от альтернативной религиозности на место женщины в историческом дискурсе (истории «своей» и «чужой»), место прекрасной половины человечества в социальнополитической, семейно-бытовой и религиозной практике европейских обществ. В-третьих, в результате работы с авторским наполнением приведённой структуры удалось выявить как общие, так и принципиально отличные черты во взглядах радикалов на женскую составляющую гендера. К общим относятся: описания пороков современного слабого пола при разности подходов языческих лидеров к проблеме феминизма; поиск женского идеала в исторической ретроспективе; комплекс идентичных утверждений, связанных с доминированием сакральной, магически-ведовской функции у представительниц слабой половины человечества; особый взгляд на внутренне-семейный функционал: женщина = мать, продолжательница рода; поиск этиологии женского вопроса в религиозной и расовой сферах (преимущественно через критику монорелигиозности). Из массы отличий наиболее важным является подход языческих лидеров к проблеме идеального общественного устройства и напрямую связанное с последним определение эпохи золотого века.
Список литературы Философия гендера в современном европейском язычестве
- Викернес В. Речи Варга. Тамбов: Полюс, 2007. 176 с.
- Викернес В. Речи Варга II. URL: http://nordlux-digi.org (дата обращения: 14.10.2010).
- Викернес В. Скандинавская мифология и мировоззрение. Тамбов: ПОЛЮС, 2006. 232 с.
- Вирт Г.Ф. Хроника Ура Линда. Древнейшая история Европы//пер. с нем. А.В. Кондратьев. М.: Вече, 2007. 624 с.
- Гобино Ж А. де. Опыт о неравенстве человеческих рас. М.: Одиссей, 2011. 765 с.
- Доброслав. Зов Туле. Б.м.: Хлыновский экспресс, 2006. 83 с.
- Доброслав. Об идолах и Идеалах. Б.м.: Новая Земля, 2007. 89 с.
- Доброслав. Сарынь на кичку! Киров: Вятка, 2004. 110 с.
- Доброслав. Своим путём//Очерки Природоведения. Убожество единобожия. Своим путём. Как хрестьяне стали крестьянами. О главном. Б.м., б.г. С. 26-35.
- Доброслав. Язычество: Закат и Рассвет. Киров: Вятка, 2004. 80 с.
- Лист Г. Первооснова. Тамбов: ExNordLux, 2009. 176 с.
- Митчел К. Интервью с Варгом Викернесом//The Metal Crypt. 10.05.2005/пер. с англ. Kriolith/BURZUM.ORG. Official Varg Vikernes website. URL: http://www.burzum.org/rus/library/2005_ interview_metalcrypt.shtml (дата обращения: 01.02.2012).
- Письмо А.А. Добровольского Р.В. Шиженскому от 04.07.2012. Из личного архива автора.
- Эвола Ю. Живём ли мы в гинекократическом обществе?//Традиция и Европа. Тамбов: Ex Nord Lux, 2009. С. 179-186.
- Эвола Ю. Красное знамя//Традиция и Европа. Тамбов: Ex Nord Lux, 2009. С. 108-115.
- Эвола Ю. Феминизм и героическая традиция//Традиция и Европа. Тамбов: Ex Nord Lux, 2009. С. 166-171.