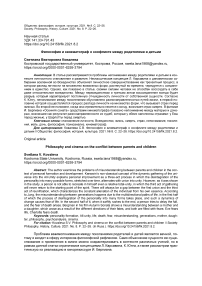Философия и кинематограф о конфликте между родителями и детьми
Автор: Ковалева Светлана Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы непонимания между родителями и детьми в контексте личностного становления и развития. Неклассическая концепция Л. Карсавина о динамическом собирании вселенной во Всеединство объясняет личностное совершенствование как трехактный процесс, в котором распад личности на множество возможных форм, растянутый во времени, чередуется с соединением в единство. Однако, как показано в статье, своими силами человек не способен воссоздать в себе даже относительное всеединство. Между первоединством и третьим актом воссоединения всегда будет разрыв, который характеризует постоянную отчужденность личности от собственной сущности. Согласно К. Юнгу, непонимание между поколениями обусловлено разнонаправленностью путей жизни, в первой половине которой осуществляется процесс распада личности на множество форм, что вызывает страх перед жизнью. Во второй ее половине, когда она стремительно несется к концу, возникает страх смерти. В фильме И. Бергмана «Осенняя соната» средствами кинематографа показано непонимание между матерью и дочерью, возникшее как результат разнонаправленности их судеб, которые у обеих наполнены страхами: у Евы перед жизнью, у Шарлотты перед смертью.
Становление личности, всеединство, жизнь, смерть, страх, непонимание, поколения, мать, дочь, философия, психоанализ, кинематограф
Короткий адрес: https://sciup.org/149138532
IDR: 149138532 | УДК: 141.33+791.43 | DOI: 10.24158/fik.2021.8.2
Текст научной статьи Философия и кинематограф о конфликте между родителями и детьми
Костромской государственный университет, Кострома, Россия, ,
Kostroma State University, Kostroma, Russia, ,
Проблема взаимопонимания между поколениями родителей и детей является вечной, потому и входит в сферу интересов философской рефлексии. Само объяснение сущности ее существования и проявления в жизни можно охарактеризовать в контексте различных учений, но в рамках данной статьи ограничимся концепциями Л. Карсавина, К. Юнга, а также рассмотрим практическую их реализацию в кинорежиссуре И. Бергмана.
Согласно представлениям Л. Карсавина, жизнь человека как личности есть проявление Бога как Абсолютного Всеединства, которое осуществляется в динамическом чередовании процессов разделения единства на множество и соединения множества во Всеединство. Возникновение мира как множества предметов, явлений, человеческих личностей понимается философом как развертывание Всеединства из абсолютного бытия, в котором нет ни времени, ни пространства, в ничто, которое в процессе теофании становится нечто. Поясняя эту мысль, Л. Карсавин пишет: «Богоявление, а лучше сказать – Богостановление и есть творение конечного и относительного нечто, сущего только самоопределившим Себя Богом и в Боге, а с отшествием Бога прекращающегося в своем условном бытии. Как иное качественно, это нечто – ничто, и всё же оно не ничто, а, будучи тожественным Богу и отражая в себе Бога, численно или сущностно от Бога отлично» [1, с. 38].
Однако миг развертывания как процесс Богоявления совпадает с мгновением собирания Себя в единство. Такое динамическое распадение единства на множественность и обратное соединение развернутых частей в единство осуществляется вне пространственно-временного континуума и не имеет какой-либо фиксации, выраженной статически законченной формой. Собственно говоря, процесс теофании как Богоявления, направленного в ничто, происходит Богом и в Боге, и, по свидетельству И.И. Евлампиева, его следует понимать «метафорически», ибо развертывание и свертывание относятся к сущности Абсолюта, которую мы, познающие, проживая жизнь за границами божественного совершенства, способны понять весьма условно [2, с. 22].
Божественное Всеединство, пребывая в полноте бытия, не испытывает ни в чем недостатка, раскрываясь во множественность и одномоментно соединяя ее в Себе, представляет собой «как бы бесконечно быстрое, замкнутое в себе самом, т. е. круговое, движение, которое по причине бесконечной быстроты своей есть в то же самое время полный, истинный и живой покой. Соделывая Себя постижимым, т. е. творя Себя, как теофанию, в творимом им относительном, Бог как бы развертывает, развивает Себя в Божественно-тварные обнаружения. Поэтому всё тварное есть подобное Богу движение Богом, в Боге и к Богу, но движение относительное, т. е. не бесконечно-быстрое и, следовательно, не сверхвременное, а временное. В тварном становит Себя Бог, но становит не в полноте Своей, относительным не вместимой, не в сверхвременности и сверхпространственности Своей, а во временной и пространственной внеположности всего Им творимого, могущего вместить» [3, с. 41–42].
В относительном существовании, которое характеризует жизнь материального мира, процессы развертывания и свертывания, пребывающие в Боге гармонично, последовательно и нераздельно, утрачивают согласованность и единство, тормозятся и длятся во времени, обретая пространственную форму. Замедляясь, разделение единства на множественность может обладать и малой, и большой и даже бесконечной продолжительностью, может не доходить до конца, «застревать» в промежуточном статичном виде. По мнению Л. Карсавина, относительная форма, в которой процессы дробления и собирания в единство, происходят в пространственно-временных координатах земного бытия, представлена личностью, характеризующей сущность человека. Философ поясняет, что целостность и единство личности выражены ее духовностью. В то же время дробление личности, ее множественность, которые характеризуют пространственную определенность и практическую определимость, есть ее телесность. «Личность не тело и не дух, – пишет автор, – но – духовно-телесное существо. Она не – “частью духовна, а частью телесна”. Ибо дух не участ-няем и не может быть частью. Личность всецело духовна и всецело телесна. Та же самая личность, которая есть дух, есть и тело. Дух и тело различаются “внутри” личности (значит, собственно говоря, не “различаются”), и личность выше этого различения, его ставя и превозмогая [4, с. 20].
Личность, как целостность духа и тела, в своей сущности представлена свободой [5]. Л. Карсавин определяет свободу как бесконечную возможность самодвижения и самореализации человека, которая начинает осуществляться через телесность. Телесность личности характеризуется процессом дробления, рассеяния на множество, который является таким же необходимым, как и собирание в единство, осуществляемое духовностью личности. Но если в идеале, определенном божественным Всеединством, эти два процесса мгновенны и гармоничны, то в реальной жизни они разъединены в пространстве и рассогласованы во времени. Раздробление единства на множество относительно первоначальной свободы как сущности личности, осуществляемое через тело, характеризует первый акт воплощения всеединства в континуальности жизни.
Выходя за границы первоначального единства в процесс «саморазъединения», личность, сосредотачиваясь на конкретной деятельности, формирует «второе» или «разъединяющее единство», которое противостоит первоединству начальному и определенному. Философ поясняет, что «и определенное первоединство и второе единство – одна и та же личность, одно “я”, как средоточие личности, хотя и “раздваивающееся”» [6, с. 11]. Разделение личности – это второй акт осуществления всеединства, который происходит как противопоставление второго единства, сосредоточившегося в себе, к первоединству, являющемуся первоначалом «я», то есть начальным и подлинным.
Однако это второе единство не остается самозамкнутым, но стремится к воссоединению с подлинным «я», возвращаясь к нему назад. Направленность от второго к первому единству характеризует третий акт формирования относительного всеединства в целостности личности. Л. Карсавин утверждает, что в процессе стремления от этого третьего «я» к первоначальному, второе единство «отдаляется от первого и третьего, из “я” делается “моим”, из живого полумертвым» [7]. Таким образом, каждый акт процесса создания всеединства в структуре личности не доводится до конца, прерывается, тем самым личностная целостность человека – это скорее цель для него, чем реальность.
Если теперь рассмотреть эту модель всеединства, осуществляющуюся в относительности отдельной личности, с точки зрения социального пространства, наполненного таковыми во множественности, то станет очевидной проблема «отцов и детей». Поколение отцов начинает свой путь в общественной среде, которая определена конкретными условиями бытия: историческим контекстом, уровнем научно-технического прогресса, экономическими показателями. Проживая свою жизнь в реальности, каждый представитель данного поколения, осуществляя свой путь становления как личности, никогда не сможет во всей полноте осуществить второй акт разделения единства до бесконечного множества возможностей, всегда прерывая и останавливая его по своей телесной немощи.
Но более важным для понимания конфликта поколений будет представление о том, что соединение себя в третьем акте всеединства также не происходит до конца, человек никогда не возвращается в то первоначальное состояние, из которого он начал процесс развертывания собственных потенций. Между первоединством и третьим актом воссоединения всегда будет разрыв, который, увеличиваясь от поколения к поколению, характеризует постоянную отчужденность личности от собственной сущности. Своими силами человек не способен воссоздать в себе даже относительное всеединство, в котором третий акт собирания никогда не возвратится в исходную точку духа. Если мысленно соединить сердце каждого человека как средоточие его личности с единым центром бытия – с Богом, проведя радиусы, то получится бесконечно большая сфера. Поколение отцов характеризует социум, образно выраженный длиной окружности, описанной одним радиусом, меньшим по размеру по отношению к радиусу, который метафорически очерчивает поколение детей. Разница между радиусами показывает степень отчужденности представителей поколения детей и от Бога, и от поколения родителей, и друг от друга.
Особенно показательно то, что молодое поколение больше ориентировано на процесс множественного дробления своего «я», которое характеризует второй акт личностного становления. Этот процесс осуществляется с целью проявить себя, израсходовать энергию, получив при этом максимум удовольствия. Однако, по мысли Л. Карсавина, будучи личностью потенциально, каждый человек должен стремиться стать личностью реально, явив свои лучшие качества в процессе саморазъединения или «умирания» ради других, жертвенной самоотдачи себя на благо ближних. В этом, по мысли философа, и состоит смысл жизни, который постигается «через жертвенную смерть, как бессознательно целесообразную, но не самосознательную деятельность всего мира, и в нем себя как вечную вечным страданием преодолеваемую необходимость, или как судьбу » [8, с. 478]. Старшее поколение, растеряв в свои молодые годы силы, старается сохранить созданное и вернуться к себе, к своему начальному «я», осуществляя тем самым третий акт реализации личности.
О смерти как смысле жизни пишет в своем учении и К. Юнг. Рассматривая жизнь в качестве энергетического процесса, ученый пишет о том, что, осуществляясь во времени, этот процесс не может быть обратимым, но устремленным только к конечной цели – к состоянию покоя. Показательным образом, демонстрирующим данное существование, является движение снаряда, выпущенного из пушки вверх, которое происходит по параболе. Первый этап движения – от начальной точки к вершине – характеризует молодость и зрелость, когда человек, обладая избытком энергии, ставит множество целей и движется к их достижению. Однако телесная жизнь, будучи биологическим энергетическим процессом, устремлена вперед, в то время как психологическая линия несколько запаздывает. В момент быстрого взлета человек внутренне не готов к такой динамичности, это вызывает страх, переходит «в невротическое сопротивление, депрессии и фобии, стоит человеку начать цепляться за прошлое или устрашиться рискованных поступков, без которых поставленные цели недостижимы» [9].
По сути, К. Юнг как психоаналитик объясняет, что происходит в сознании молодого человека, когда, осуществляя второй акт личностного становления (по Л. Карсавину), он редко способен на жертвенность, на самоотдачу себя для блага другого. Боязнь взросления и ответственности, желание остаться в прошлом, в детстве психологически тормозят собственный личностный взлет. И если биологически зрелость человека уже наступила, то во внутреннем развитии эта точка еще не достигнута. А когда приходит осознание того, что высшая цель осуществилась, воз- никает желание задержаться на вершине, остановить время, чтобы прочувствовать «психологический покой», но время неумолимо движется вперед. Только теперь движение идет от вершины вниз, так же стремительно унося жизнь к ее концу.
К. Юнг пишет, что как в юности страх отгораживал человека от жизни, «так теперь он встает между ним и смертью. Признавая, что из страха перед жизнью он запоздал с подъемом, теперь человек как раз из-за этого опоздания силится удержаться на достигнутой вершине. Правда, ему уже совершенно ясно, что, несмотря на все сопротивление (о котором теперь - как же горько! -он сожалеет), жизнь взяла свое, но вопреки этому пониманию он и теперь пытается ее остановить. Психологически такой человек теряет почву под ногами. Его сознание повисает в воздухе, а соскальзывание по параболе лишь ускоряется» [10]. Из концепции К. Юнга становится понятно, почему во второй половине жизни человек стремится задержаться во времени, вернуться к себе, к изначальному своему «я», осуществляя третий акт процесса личностного становления, описанного Л. Карсавиным.
Учение психоанализа дает понять различие в жизненных ориентирах между поколениями отцов и детей. Находясь по разные стороны от вершины, воплощая разнонаправленные пути жизни, протекающие по двум параллельным, но удаленным друг от друга ветвям параболы, эти два поколения не могут никогда «встретиться». То, чем живут молодые люди, было пройдено их отцами и понято, как время, когда «разбрасывают камни», отдают себя в погоне за удовольствиями жизни. Оценивая этот путь с другой ветви параболы, проносясь в другом направлении, видя ошибочность и ненужность многих целей молодежи, зрелые люди указывают на эти недостатки, но молодежь не слышит, ибо не понимает, она просто идет своим путем. Время пожилых людей -это время «собирать камни», возвращать долги, через движение вглубь себя, к своему изначальному «я», собирать себя в единство, которое после смерти вольется в общее Всеединство, как мечтал Л. Карсавин. Несмотря на то, что вторая половина жизни есть движение к смерти, в отличие от первой, которая характеризует подъем, развитие, приумножение, они одинаковы в одном - в нежелании двигаться вперед: «будь то к вершине своей жизни или к ее концу... То и другое означает нежелание жить. Нежелание жить равнозначно нежеланию умереть. Становление и исчезновение - две ветви одной дуги» [11].
Понимание проблемы взаимоотношений родителей и детей средствами кинематографа осуществил режиссер И. Бергман в своем фильме «Осенняя соната» * . Случайно узнав о смерти очередного друга матери (Ингрид Бергман), дочь Ева (Лив Ульман) приглашает ее в свой сельский дом, обещая заботу, внимание, семейное счастье. В первую же ночь пребывания между ними состоялся откровенный разговор, в котором каждая женщина впервые открыла свой внутренний мир самому близкому и родному человеку, обнажив бездну разрыва между ними.
Будучи известной пианисткой, мать частенько оставляла с мужем свою дочь, полностью посвятив себя музыкальной карьере и новым впечатлениям от встреч с другими мужчинами. Следуя концепции Л. Карсавина, можно сказать, что, воплощая второй акт личностного становления, Шарлотта отдавала силы и энергию для развития своих музыкальных способностей, растрачивая их во благо зрителей, но не на семью. Вспоминая свое детство, мать рассказывала Еве, что родители никогда ею не интересовались, между ними не было духовной близости. Отдушину Шарлотта обрела в музыке, с помощью которой она заполнила внутреннюю пустоту переживаниями, мыслями, необходимыми ее сердцу и услышанными в творчестве композиторов. Двигаясь вперед по пути успеха, Шарлотта смогла преодолеть страх, неуверенность, которые как болезни взросления, согласно К. Юнгу, подавляли волю. Состоявшись как успешная, востребованная пианистка, Шарлотта как мать оказалась несостоятельной. Воплощая модель поведения своей матери, она была безразлична к дочери, боялась ее любви и отталкивала своей холодностью.
Вспоминая свой подростковый возраст, Ева напомнила матери о болезни ее спины, которая вынудила Шарлотту провести несколько недель дома, ставших для дочери кошмаром. Чувствуя вину за годы безразличия к ней, мать попыталась исправить ошибку и окружила ее невыносимой опекой: увидев искривление осанки, заставила заниматься гимнастикой, обратив внимание на неправильный прикус, девочке-подростку вставила пластину на зубы, заметив ее неумение заплетать косы, коротко постригла волосы, видя ее пристрастие к брюкам, купила платья.
Девочка, боясь огорчить мать, безропотно выполняла все ее рекомендации, даже читала только то, что советовала Шарлотта, не понимая прочитанного, так же как и объяснения матери. Внешне проявляя терпение к мужу, дочери, говоря им слова любви, Шарлотта в своем сердце оставалась холодной, замкнутой, и это чутко понимала девочка, не ощущая материнского тепла, нежности, настоящей ласки ни к себе, ни к отцу. Теперь, когда мать оказалась у нее в гостях, Ева, выпив бокал вина, смогла об этом сказать без страха, который парализовывал ее в детстве. Шарлотта, испытав искреннее изумление, слушала ее со слезами на глазах и пыталась оправдаться тем, что не могла отказываться от выгодных контрактов, не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы оставить карьеру ради семьи. Про Еву можно сказать, что, будучи в волевом отношении более слабой, покорной, она поддалась страху взросления и не смогла проявить своего «я» через личностное становление и развитие своих способностей, которые, по сути, так и остались для нее неведомыми.
Испытывая раскаяние, мать обращается к дочери с мольбой: «Ева, ты научишь меня быть другой, обними меня, прикоснись ко мне, помоги мне!». Но дочь не ответила на призыв Шарлотты, потому что невольно повторила в себе образ поведения матери. Выйдя замуж за пастора Виктора без любви, она посвятила себя благотворительной деятельности: в общине проводила концерты, играя на фортепиано, как мать, но в отличие от нее была бездарной исполнительницей, написала две книги. Наступившая беременность заставила ее отказаться от работы, и Виктор был счастлив. Родившийся мальчик через 4 года утонул, и Ева вновь вернулась в общину, оставшись с мужем только друзьями. Искренние слова Виктора о том, что он ее любит и надеется на прежние супружеские отношения, не вызывают в ней отклика. Женщина отвечает, что он лицемерит так же, как когда-то это делала ее мать, говоря о любви к ней.
Несмотря на то, что Ева, подытоживая разговор с матерью, заявляет: «Существует только одна правда, одна ложь, и нет никакого оправдания», она не замечает главного – правда только тогда одна, когда к ней пришли оба участника разговора. Пока замкнут каждый в себе, только на своих чувствах и мыслях, тогда и правд будет несколько. Очень глубоко в своем сознании женщина понимает, чтобы увидеть и понять саму себя, она должна отразиться в другом человеке, который сможет принять ее такой, какая она есть. Об этом Ева пишет в одной из своих книг, и эти слова цитирует Виктор, комментируя, что такой человек есть рядом с ней, но она его не видит. Он очень хочет подобрать слова, чтобы выразить свое отношение к ней, но они не находятся. А поступков Виктора, которые пронизаны терпением, тихой любовью, надеждой, Ева не замечает. Точно так же, как не видела, не замечала Шарлотта ее, дочерней, любви.
Если для Шарлотты пришло время «собирать камни», потому она и адресует Еве свою просьбу о помощи, чувствуя необходимость возвращения к себе, своему настоящему «я», задавленному виной перед дочерью, то Ева еще не понимает нужность этой рефлексии, и поэтому не обращается за помощью к любящему ее Виктору. Ею еще не достигнута точка бифуркации в процессе собственного становления, пока динамика ее жизни направлена вверх, к вершине, в то время как для Шарлотты время движется к смерти. Не найдя прощения в дочери и поддержки с ее стороны, она вновь уезжает на гастроли. Две жизни как две ветви параболы разошлись, оставив между собой бездну разрыва, наполненную обидами, непониманием и взаимными упреками.
Список литературы Философия и кинематограф о конфликте между родителями и детьми
- Карсавин Л.П. Saligia, или Весьма краткое и душеполезное размышление о Боге, мире, человеке, зле и семи смертных грехах / Л.П. Карсавин // Малые сочинения. СПб., 1994. С. 24-57.
- Евлампиев И.И., Куприянов В.А. Концепция истинной смерти Л.П. Карсавина и "синтетический" образ Иисуса Христа в творчестве Ф.М. Достоевского // Философский полилог. 2019. №1 (5). С. 20-39.
- Карсавин Л.П. Saligia.. С. 41-42.
- Карсавин Л.П. О личности / Л.П. Карсавин // Религиозно-философские сочинения. М., 1992. С. 76-234.
- Ковалева С.В. Онтология сознания: феноменальность акта Эго // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2014. № 7. С. 130-133.
- Карсавин Л.П. О личности.. С. 11.
- Карсавин Л.П. О так называемом "бессмертии души" / Л.П. Карсавин // Сочинения. М., 1993. C. 478-480.
- Юнг К.Г. Душа и смерть [Электронный ресурс] // Журнал литературный, политический, учёный "Отечественные записки". 2006. № 1 (28). URL: https://strana-oz.ru/2006/1/dusha-i-smert (дата обращения 25.07.2021).