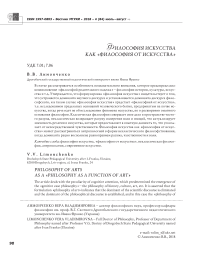Философия искусства как "философия от искусства"
Автор: Лимонченко В.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Современная культура и художественные практики
Статья в выпуске: 4 (84), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается особенность познавательного внимания, которое предопределило возникновение «философий родительного падежа» - философии истории, культуры, искусства и т.д. Утверждается, что формулировка «философия искусства» свидетельствует о том, что устраняется доминанта научного дискурса и устанавливается доминанта дискурса философского, и в таком случае «философия искусства» предстает «философией от искусства», т.е. исследованием предельных оснований человеческого бытия, предпринятым на почве искусства, когда речь идет не об исследовании феномена искусства, но о расширении опытного основания философии. Классическая философия совершает свое дело в пространстве чистого разума, неклассическая возвращает разуму измерения воли и эмоций, что актуализирует значимость религии и искусства, которые предоставляют в опытную данность то, что ускользает от непосредственной чувственности. Философия искусства как «философия от искусства» может рассматриваться антропологией в форме неклассического философствования, когда доминанта рацио восполнена равноправием разума, чувственности и воли.
Философия искусства, "философия от искусства", неклассическая философия, антропология, современное искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/144161201
IDR: 144161201 | УДК: 7.01;
Текст научной статьи Философия искусства как "философия от искусства"
Не столь существенна хронология событий, определяющих дух нашего времени – это может быть и благая весть христианства, возвестившая новый завет об измененном мире, и ренессансный исток новоевропейской истории, во главу угла ставящий поступательное движение к совершенству. Явственна установка на новизну, что может быть названо по-разному – это и акцент на творчестве (в ином именовании – креативности), и настоятельное требование инноваций в любом виде деятельности, и задание модернизации мира человека. Европейская философия, начиная от греческой натурфилософии, в противовес множественной изменчивости озабочена не тем, что возникает и исчезает, но тем, что предстает первично-исходным, незыблемым и неизменным – это познание в свете вечности. Такая установка познания была узурпирована наукой, ориентированной на открытие законов, философия как таковая стала сомнительной, избыточной и даже ненужной абстракцией, идеализированным отрывом от действительности.
На фоне такой подозрительности тем не менее начиная с ХVIII века возникает множество новых дисциплин – философия истории, философия культуры, филосо- фия искусства, языка, мифа; в ХХ веке процесс обретает характер дурной бесконечности, что в определенной мере оправдано бесконечностью мира, предоставляющего новые объекты исследования, обретающие свою предметность в философском размышлении. Эта ситуация видится сама собой разумеющейся, однако возникающая новая множественность, в свою очередь, ожидает рефлексивности: что стоит за тенденцией возникновения новых дисциплин, какая познавательная установка является исходной и определяющей – в противном случае возникает избыточное дублирование, когда рядом с философией языка существует языкознание, философии искусства параллельно искусствознание (искусствоведение), философия культуры оспаривается культурологией. Именно в свете избыточности таких познавательных проектов возможно название книги «Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм» (Паскаль Гилен). Возможны и более жесткие формулировки – «On Bullshit» Г. Франкфорта [17]. Эта ситуация и становится предметом осмысления, что предполагается рассмотреть на примере философии искусства.
Философия искусства как философское искусствознание Мне уже приходилось говорить об особенной ситуации в искусстве начала ХХ века, которая может быть названа фило-софизацией искусства [9, с. 104–105]. Существенно не то, что художники обращаются к аналитике своей деятельности и создают философские трактаты, оперируя понятиями философии, а в изменениях самого искусства. Крен искусства в философию я рассматривала на примере оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», где в сюжет (либретто С. Прокофьева) введен рефлексивный момент, который может быть назван метафизическим вопрошанием о сущности – каким быть действию: защитники различных театральных жанров предстают выразителями различных методологических ориентаций и устраивают оперное сражение. Трагики (басы) требуют «высоких трагедий, философских решений, мировых проблем»; комики (тенора) жаждут «бодрящего, оздоравливающего смеха»; лирики (сопрано и тенора) мечтают о «романтической любви, цветах, луне, нежных поцелуях»; пустоголовые (альты и баритоны) хотят «фарсов, ерунды, двусмысленных острот». Десять чудаков (пять теноров и пять басов) вмешиваются в спор и объявляют о начале «настоящего, бесподобного» представления.
Достаточно выразительно проблема-тизация искусства засвидетельствована возникновением беспредметного, нефигуративного искусства – именование такого искусства в сфере изобразительного искусства абстрактным напрямую выводит на характеристику философии у широкой публики как склонной к абстракциям высокого уровня (эта публика с гегелевским опровержением абстрактного характера философии не знакома); в словесных искусствах беспредметной нефигуративности соответствует абсурдизм и дадаизм; музыка свою беспредметность открыла в «4’33”» Д. Кейджа. Доведение проблематизации до прибитых к кремлевской брусчатке тестикул (П. Павленский) актуализирует вопрос «что же такое искусство?», иногда конкретизированного – «что такое современное искусство?». Помещение протестного акциониста, получившего в 2017 году политическое убежище во Франции, в психиатрическую клинику в том же году не снимает самого вопроса – действия общественно опасные пресекаются (что в свою очередь небеспроблемно), но как относиться к выставкам и биеннале современного искусства, вызывающих общественные скандалы различного уровня? И речь не об «отстающем» от свободной Европы постсоветском пространстве – достаточно обратиться к фильму «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда, получившего Золотую пальмовую ветвь 70-го Каннского кинофестиваля (2017). В самом названии явственно звучит оммаж Малевичу, в перформансе человека-гориллы прочитывается Олег Кулик, креативность современного искусства демонстрируется кучками мусора. Можно вспомнить и «Ахиллеса и черепаху» Такеси Китано, ставящего тот же вопрос, нюансы которого выражены названием: «Как нет объяснения тому, каким образом Ахиллес не может догнать черепаху, так же загадочны парадоксы творчества» (А. Плахов [12]).
Подобная ситуация в искусстве отразилась и в структуре образования, в которое в качестве необходимого элемента включены курсы «Философия искусства», в виде школьной пропедевтики функционирует предмет «Мировая художественная культура». Это вызвало к жизни учебные пособия с такими же названиями – порой они тяготеют к компиляциям разного уровня грамотности (можно вспомнить бревиа-рии средневековых университетов), порой к авторским концептуальным текстам, но главная тенденция для них общая – формулировка «философия искусства» прочитывается в родительном падеже, что дает основание говорить о «философии родительного падежа», философствовании относительно некоторой области, или более привычно и просто – философском рассмотрении искусства. Такой подход вполне обоснован, поскольку ставит вопрос о сущностном знании в отличие и от случайного мнения обыденного знания, представляющего собой предпонимание, всегда наличествующее в сознании (еще Августин замечал, что все мы понимаем, что такое время, когда говорим о нем, но объяснить «что такое время» – т.е. ответить на вопрос о сущности – не можем [1, с. 167]), и от технически ориентированного знания, фиксирующего внимание на том, как работает нечто, при этом не задаваясь вопросом о сущности. Философское осмысление предполагает специфический познавательный режим: если повседневное знание по своему характеру и происхождению является некритичной неупорядоченной совокупностью различных взглядов и представляет собой неосознанное пользование терминами и понятиями, то философское знание предстает как продуманная, упорядоченная систематизированная целостность. Еще одна специфическая черта философского подхода к действительности выразительно представлена античной философией со времен Парменида и Платона и о чем выше уже шла речь,– это внимание к общим, абсолютным сущностям, тому, что всегда было, есть и будет, находится вечно, а не возникает, становится и исчезает. При этом необходимо упреждающее уточнение – всеобщее в данном случае должно иметь характер порождающего основания, а не общего признака, что далеко не всегда соблюдается.
Итак, формулировка «философия искусства» свидетельствует о том, что устраняется доминанта научного дискурса и устанавливается доминанта дискурса философского. Но как это изменяет характер знания? О. С. Руднева в статье с показательным названием «Философия искусства как одна из методологических основ художественного образования» так формулирует специфику философского осмысления искусства: «Философия искусства – отрасль философии, исследующая сущность и смысл искусства на основе науки об искусстве, литературе, музыке, учитывая при этом функции искусства внутри культуры и всей сферы ценностей. В отличие от научных дисциплин, исследующих специально выделяемые частные аспекты действительности, философия ставит вопрос о мире как целом, а искусство прослеживает отражение цельности мира в цельности образа, в эстетическом феномене гармонии. Искусство тем “философичнее”, чем художественнее, то есть вернее своей сущности» [14].
То, что научные дисциплины исследуют частные аспекты действительности, звучит вполне убедительно, хотя вопрос отличия философии от искусствознания (искусствоведения) остается. Причем смысловая определенность последнего отсутствует: словари, энциклопедии, учебники оба слова дают как синонимы, делая акцент на том, что это совокупность наук обо всех видах художественного творчества, включающая историю искусства, теорию искусства и критику, но в то же время термин «искусствоведение» доминантно относится к изобразительным искусствам. Мерцание смысла демонстрирует статья под названием «Современное искусствоведение как наука о современном искусстве», напечатанная в украинском журнале «Образотворче мистецтво»: искусствоведение рассматривается как осмысление искусства (при акценте на «современности») как такового, но по сути речь идет об изобразительном искусстве, т.е. предмет искусствоведения остается слепым пятном – то ли это искусство в своей сущностной определенности, то ли это визуальное пластическое искусство, которое принято именовать изобразительным [13].
Так, в хорошо известной книге И. Тэна с названием «Философия искусства», на- писанной на основе лекционных курсов, прочитанных им в 1864–1869 гг. в парижской Школе изящных искусств, речь идет о живописцах и скульпторах, хотя сам И. Тэн называет свой курс эстетикой и главным считает вопрос «Что такое искусство и какова сущность его?». Но метод, каким он предполагает сделать это, соответствует эмпирическому дискурсу в познании: «Нет надобности идти дальше опыта, и все дело заключается в том, чтобы посредством многочисленных сравнений и постепенных ограничений открыть общие черты, принадлежащие всем произведениям искусства, и в то же время те отличительные особенности, которые выделяют произведения искусства из других произведений человеческого ума» [16, с. 14]. То есть его философия искусства остается в пределах дискурса научного, что и характерно для построений позитивизма. Если подходить строго, то это отвечает методам искусствоведения – заниматься произведениями искусства в их опытной данности, уподобляя эстетику ботанике [16, с. 13]. Правда, Тэн не остается верным провозглашенному методу и выходит за его пределы: «Я постараюсь раскрыть перед вашими глазами ту таинственную среду, из которой вышли Джотто и Беато Анджелико; с этой целью я прочту вам отрывки произведений поэтов и легендарных писателей, из которых будет видно, как люди того времени понимали счастье, бедствие, любовь, веру, рай, ад – все великие интересы человеческой жизни» [16, с. 12]. Если научный дискурс в своей верности позитивному факту (наблюдаемому, реальному, оправданному в своей полезности, достоверному, точному) очищает его от человеческой субъективности (И. Тэн называет «счастье, бедствие, любовь, веру, рай, ад», которые имеют характер понятий, свойственных бытию человека – в ХХ веке их назовут экзистенциалами), то философский в верности своей природе неизбежно должен возвратиться к человеку.
Философия искусства как антропология
В строгом соответствии теме подраздела нельзя не вспомнить М. Шелера, для которого антропология перестает быть одной из структурных частей философии, выражая центральную тенденцию ее существования. Но в свете рассматриваемой темы значимо мыслительное движение, выявленное Э. Кассирером и В. М. Межуевым, ставящими вопрос на почву философии культуры. Рассматривая соотношение культурологии и философии культуры, В. М. Межуев различает знание о культуре, даваемое ее научным изучением, и осознание своей личной принадлежности к определенной культуре – первое делает возможным существование культурологии (науки о культуре), самосознание человека в культуре получает свое рациональное и осмысленное выражение в философии культуры [11], т.е. родительный падеж формулировки получает иной смысл – это не размышление о чем-то, но выявление того основания (всеобщего, субстанциального), которое становится порождающим, о чем ранее шла речь. У Э. Кассирера философия культуры также не есть исследование особой области, но первая философия в аристотелевском смысле, т.е. культура для него – особо проявленная область действительности, свидетельствующая о бытии как таковом [8, с. 616].
Такое понимание соответствует повороту мысли, указанному Н. А. Бердяевым в Предисловии к книге «Философия свободы»: «Философия свободы значит здесь – философия свободных, философия, исходящая из свободы» [4, с. 12]. То есть не размышление о свободе, объективирующее ее как предмет изучения, но обретение ее в качестве исходного основания. Возникает специфический смысл свидетельства от некоторой особенной реальности – в данном случае искусства – что аналогично свидетельствам евангелистов («Евангелие от Марка», «Евангелие от Луки», «Евангелие от Матфея», «Евангелие от Иоанна»). Итак, если понимать философию как вопрошание о началах – о началах мира, условиях и основаниях мысли о мире и в мире, о предельных основаниях человеческого бытия и о начале как таковом, то «философия от искусства» предстает онтолого-антропологическим исследованием предельных оснований человеческого бытия, предпринятым на почве искусства.
В качестве промежуточного вывода следует отметить, что в так понимаемой философии искусства доминирует смысл философии – философия искусства выполняет дело философии, к чему и следует обратиться. Иная формулировка – предмет философии, но эта постановка вопроса угрожает бесконечностью, поэтому останемся на почве первичной формулировки, которую находим у В. С. Соловьева, после него о деле философии развернуто говорит А. В. Ахутин, не упоминая, впрочем, Соловьева,– притом что оба ставят вопрос, исходя из античной мысли. В. С. Соловьев эксплицирует античный вариант дела философии – освобождение человеческой личности от внешнего насилия и внутренней пустоты, т.е. философия – это то, что делает человека вполне человеком [15, с. 125]. Если соловьевский вариант можно назвать стратегической постановкой вопроса, то Аху-тин акцентирует внимание на тактическом измерении «как?» и говорит о философии как искусстве сократического вопрошания о незнании, что уподобляет философию повивальному искусству, помогая родиться мысли [3, с. 46–49; 51–55]. Неотчуждаемое дело философии – работать на пределе постижимого и непостижимого, исследовать основоположения мысли.
Классическая философия совершает свое дело в пространстве чистого разума, неклассическая возвращает разуму измерения воли и эмоций, что актуализирует значимость религии и искусства, которые предоставляют в опытную данность то, что ускользает от непосредственной чувствен- ности – в этом смысле К. Маркс и говорит о чувственно-сверхчувственном, что наиболее выразительно и очевидно-достоверно присутствует в искусстве. Отличный от предыдущих эпох способ существования искусства – обращение к несовершенной, неидеальной форме прозаически-обыден-ного, к самой жизни, что в пределе дает вещизм и акционизм. Но такие формы можно понимать и как срыв от немощи, т.е. невозможность удержаться на лезвии предела чувственно-сверхчувственного, «сваливаясь» в однозначность. В этом плане показательны высказывания деятелей искусства, свидетельствующие о кризисном состоянии современного искусства: В. Мартынов говорит о «скукоженном» состоянии музыки, утверждая, что «музыка без антропологии – ничто» [10], Н. Арнонкур фиксирует редуцированное бытие музыки, ставшей «украшением, позволяющим заполнить пустые вечера посещением оперы или филармонии, украсить официальные торжества, отогнать, включив радио, наскучившую тишину домашнего одиночества. Отсюда парадокс – кругом звучит значительно больше музыки, чем прежде (чуть ли не постоянно), но теперь она уже не имеет для нас былого значения, оставаясь разве что “милым украшением”» [2]. Причём утрата значимости искусства (в данном случае музыки) происходит при ограничении человеческого начала уровнем видимого, слышимого, регистрируемого каким-либо способом: музыка отождествляется с чувственно воспринимаемым звуком и перестаёт быть «языком, повествующим о невыразимом словами» [2], в философии этому соответствует установка на «позитивное» у О. Конта (чему следует даже без упоминания его англо-американская традиция). Н. Арнонкур, дирижер, виолончелист, философ и музыковед – одна из ключевых фигур музыкальной жизни Европы и всего мира,– издаёт книгу с интригующим названием «Музыка языком звуков. Путь к новому пониманию музыки». Для позитивистски настроенного восприятия название звучит как оксюморон – а разве возможна музыка без звука? Ответил на этот вопрос здравого смысла Д. Кейдж, войдя в историю музыки своим произведением «4’33”».
Понимание философии искусства как неклассической антропологии прочитывается в словах Софьи Губайдулиной и Николауса Арнонкура, для которых музыка (искусство) повествует о невыразимом, изменяющем людей [2, с. 6], и тем останавливает процесс умирания, поскольку человек с помощью искусства восстанавливает связь с высшим началом и перестает быть одномерным. Искусство антропологично не своим служебным дидактизмом и морализмом, но в силу выведения человека за пределы утилитарной повседневности, что делает и развлекательное искусство, которое отвлекает человека от обыденности забот и тревог (по Аристотелю – искусство врачует и очищает души), но развлекательное искусство подчинено удовлетворению потребностей, растворяя сознание в массе, замыкая человека в круге потребностей его наличного функционирования, т.е. по принципу гильотины: нет обостренного сознания неполноты и ущербности и собственной ответственности за это – нет забот и тревог. Вся сложность в видении собственной, личностной ответственности, искусство и есть орган восприимчивости, способности отвечать: «искусство совершенствует способность видеть, чувственно созер- цать окружающий мир» [5, с. 218]. И однозначный служебно-подражательный натурализм, и безответственный игривый артистизм отрезают философское измерение искусства, которое перестает быть одним из основополагающих принципов бытия. Философия искусства возвращает искусству его космическое значение, пример подобной деятельности дает искусствовед М. Казиник, и он знает об этой особенности искусства [7, с. 10–11].
Итак, выявление такой формы как «философия от искусства» – аналогично евангельским текстам, звучащим от Иоанна, Луки, Матфея и Марка. В таком случае возможно видеть в искусстве расширение опытного основания философии, и тогда в философии искусства акцентируется не искусствоведческая составляющая, но философская. Это расширяет пространство философии, которая помимо общепринятой словесно-интеллектуальной деятельности, сосредоточенной в отстраненной от жизни теоретической сфере, обретает права реальной (М. К. Мамардашвили), но возможно и – практической, философии. Искусство предстает практикой выработки человеческого содержания, культивирования человеческого в человеке, оформляя специфически человеческую «чувственность». Русская философия еще в лице В. Ф. Одоевского (его философский роман «Русские ночи») выявляет тяготение именно к такому расширенному основанию философии.
Список литературы Философия искусства как "философия от искусства"
- Августин Аврелий. Исповедь // Августин Аврелий. Исповедь. Абеляр П. История моих бедствий. Москва- Республика, 1992. С. 8-222.
- Арнонкур Н. Музыка языком звуков [Электронный ресурс] URLhttp://royallib.com/book/arnonkur_nikolaus/muzika_yazikom_zvukov_put_k_novomu_ponimaniyu_muziki.html
- Ахутин А.В. Поворотные времена. Санкт-Петербург: Наука, 2005. 743 с.
- Бердяев Н.А. Философия свободы // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. Москва- Правда, 1989. С. 11-250.
- Ильенков Э.В. О «специфике» искусства // Искусство и коммунистический идеал- Избранные статьи по философии и эстетике. Москва: Искусство, 1984. С. 213-224.