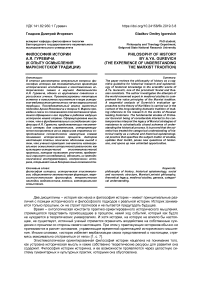Философия истории А.Я. Гуревича (к опыту осмысления марксистской традиции)
Автор: Гладков Дмитрий Игоревич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены актуальные вопросы философии истории как познавательного ориентира исторического исследования и эпистемологии исторического знания в научной деятельности А.Я. Гуревича, одного из крупнейших советских и российских ученых. Проанализированы некоторые аспекты в осмыслении признанным в мире историком-медиевистом ценностных начал марксистской традиции. Последовательный анализ оценочных подходов Арона Яковлевича к теории К. Маркса проведен в связи со сложившейся отечественной практикой обращения к его трудам в работах ведущих историков нашей страны. Сформулирована мысль о том, что в фундаментальных исследованиях профессора А.Я. Гуревича, представляющих несомненный интерес для современников, интерпретируются воспринятые им из марксизма стратегии сопротивления схоластически замкнутым схемам понимания исторического процесса. Автором настоящей статьи логически обоснован вывод о том, что ученый трактует значимость категориального осмысления исторической реальности как культурно-исторической эпистемологической практики, которая позволяет уточнять предметный горизонт исследований, обновить их методологический инструментарий, «вопросники» историка, открывает иные безграничные возможности.
Философия истории, историческая эпистемология, общественно-экономическая формация, марксистско-ленинская философия, теоретическое наследие, медиевистика, генезис, категориальное осмысление
Короткий адрес: https://sciup.org/149133940
IDR: 149133940 | УДК: 141.82:930.1 | DOI: 10.24158/fik.2019.3.8
Текст научной статьи Философия истории А.Я. Гуревича (к опыту осмысления марксистской традиции)
Две дисциплины – история как наука и философия истории – имеют принципиальные различия с позиции исторического и философского подходов к реальной истории. Историк занимается только прошлым, он не строит прогнозов и не пытается предугадать будущее.
Время – онтологическая константа практико-ориентированного исторического мышления, стремящегося представить произошедшее в прошлом, некий ход событий, который как будто не нуждается в теоретических универсалиях. И хотя истории, на которую не влияло бы настоящее, не существует, истинный ученый стремится ограничить воздействие на собственные суждения о прошлом со стороны своего настоящего. При этом у практикующих историков обычно не принимаются в расчет основания, управляющие временной ориентацией исторического мышления. Иными словами, «историк избегает вербализации своих представлений о настоящем, стремясь максимально отстраниться от него» [1, с. 7].
Эпистемологически ориентированная философия истории нацелена на понимание того, как устроена историческая мысль и какие собственно теоретические ресурсы для развития она содержит. Философия истории исторична, и ее возможности проявляются через целостную систему гуманитарных и культурных практик, которыми она обусловлена.
В отечественной философии истории XX–XXI вв. особое место занимает теоретическое наследие К. Маркса. Основоположник марксизма, всецело сосредоточенный на актуальных вызовах современной ему социальной реальности, не оставил специальных работ, где систематически излагалась бы его философско-историческая доктрина. Между тем философом обосновано понимание истории как некоторой познавательной всеобщности, т. е. «одной-единственной науки» [2, с. 16], ценностно-нормативного условия накопленного им исследовательского опыта в его экономических исследованиях, политических трудах, переписке. В частности, он писал: «Марксистская философия есть прежде всего философия истории» [3, с. 335]. Работы идеолога, точнее, их систематическое и дидактико-идеологическое упорядочение советскими историками и философами-марксистами оказали огромное влияние на исторические исследования в нашей стране, «марксизм вошел в плоть и кровь современной исторической науки» [4, с. 76]. Маркса признавали основоположником формационного подхода к истории как истории людей, которые по аналогии с природой («история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга» [5, с. 16]) образуют различные общественно-экономические формации, с присущим им исторически способом производства, противоречивым единством производительных сил и производственных отношений.
Известный российский исследователь А.Я. Гуревич предлагает свой опыт рефлексии философии истории К. Маркса, культурно-историческую перестановку в его формуле аналогии, помещая на первое место «историю людей», а за ней - «историю природы». История этой рефлексии сегодня не завершена, она представляет специальный интерес в аспекте исследований в области эпистемологии исторического знания [6]. В ранних статьях А.Я. Гуревича, опубликованных в 50-60-е гг. ХХ в., встречаются ссылки на труды К. Маркса и Ф. Энгельса и сопутствующие фрагменты предложений: «как неоднократно указывали К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин...» [7, с. 14]; «К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин, разрабатывая материалистическое понимание истории и вскрывая коренные движущие силы исторического процесса, вместе с тем неоднократно указывали...»; «произведения основоположников марксизма-ленинизма содержат многочисленные образцы…» [8, с. 54]; «помня известные слова Маркса о государственной власти эпохи первоначального накопления…»; И.В. Сталин подчеркивает громадную роль «новых общественных идей, новых политических учреждений, новой политической власти, призванных упразднить силой старые производственные отношения…» [9, с. 50] и др. Вместе с тем А.Я. Гуревич, по наблюдению его современника, скандинависта А.С. Кана, - марксист вполне творческий.
В рецензии на книгу Арона Яковлевича «Свободное крестьянство феодальной Норвегии», изданную в 1967 г., А.С. Кан пишет о том, что благодаря этой работе «решительно расширились наши представления о генезисе и особенностях феодализма в Северной Европе». Рецензент отмечает: «Норвежская буржуазная медиевистика на современном этапе зачастую отходит от близких к марксизму взглядов X. Кута, Э. Бюлля и их старших учеников, советский ученый, опираясь на достижения марксистско-ленинской науки в СССР, творчески развивает наследие прогрессивных норвежских историков» [10, с. 315]. По оценке Р. Марквика, который после смерти А.Я. Гуревича в 2010 г. находился в числе «салютовавших» ему, исследования Арона Яковлевича стремились выйти за пределы привычной советской зависимости от работ К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина, были его «собственной интеллектуальной одиссеей». В молодости Гуревич воспринял марксизм как некоторый теоретический опыт социального и исторического понимания - «общества как системы» и «движущих сил исторического развития»; «но он никогда не принимал его как “философию истории” с ее теорией всецело закономерных, преемствующих друг другу общественно-экономических формаций» [11, р. 54].
В конце 50-х - начале 60-х гг. в «Вопросах истории», «Вопросах философии», других журналах и сборниках публикуются исследования А.Я. Гуревича, в которых он лишь пытается «по-новому прочитать» наследие К. Маркса и В.И. Ленина, считает необходимым указать на иные, более продуктивные источники развития гуманистики в целом и исторического знания в частности. Как активный участник дискуссий о природе исторического знания, видный ученый назвал это для себя «временем переосмысления теоретических и гносеологических принципов исторического познания» [12], «ломкой своего научного мировоззрения» [13, с. 6]. Немало высказываний того периода стали неотъемлемой частью его внутренней эпистемологической эволюции ухода от марксизма. Однако он признает, что было бы нечестно удалять из текстов своих книг «ссылки на основоположников марксизма и общеупотребительные в тот период словесные коды. Я - сын своего времени, “шестидесятник”, и ничто, свойственное тогдашней манере мыслить и говорить, не было мне чуждо» [14, с. 5].
Это сыновство определенным образом осмысливалось и преодолевалось. Ученый-шестидесятник приходил к убеждению, что большинство его современников, гуманитариев-шестидесятников, «отрицая или подвергая сомнению многие глобальные обобщения вульгаризованной русской версии марксизма (под лозунгом “за новое и более глубокое прочтение Маркса”)», оставляли в стороне историчность философии истории Маркса, «не прикасались к латентно содержащейся в ней эпистемологии, которая была воспринята К. Марксом у Г. Гегеля и отвергала проблематику И. Канта, а впоследствии и неокантианства» [15, с. 75]. Шестидесятники оставались марксистами, вполне доверявшими марксизму как некоторой универсальной, правильной форме научного познания, не пытались анализировать ни его возможности, ни предпосылочные основания марксистских категориальных структур. Эта фундаментальная когнитивная доверчивость к идеям философии истории Маркса, точнее, к базовым познавательным историческим настроениям марксизма по некоторому общему беспредпосылочному основанию, у отечественных историков хорошо сочеталась с доверием к позитивистским методологическим установкам. Все новое оказывалось хорошо забытым старым и по-старому понимаемым, т. е. «одиссее», методологической «езде в незнаемое» предпочитался своего рода «день сурка», теоретический повтор и философское самодовольство, губительное как для исторических наук, так и для философии истории, задерживающее отечественную историографию в определенных интеллектуальных нишах рубежа XIX-ХХ вв.
В ходе интенсивного переосмысления наследия Маркса в 1965 г. А.Я. Гуревич пишет: «Марксистско-ленинская философия и историческая наука призваны дать бой нашим идейным противникам, но для этого мы должны быть во всеоружии своей теории. Нам предстоит тщательно изучить мысли основоположников марксизма-ленинизма относительно характера исторического процесса и продолжить углубленный анализ присущих ему категорий (курсив мой. - Д. Г. )» [16, с. 24]. К. Маркс и Ф. Энгельс были прежде всего полемистами в философии истории. Их размышление шло вразрез с мнением младогегельянцев и других социалистов, а «материалистическое понимание истории открыло новую страницу в освоении богатства исторического процесса» [17, с. 367]. Внимание А.Я. Гуревича к Марксу было в первую очередь эпистемологическим, его интересовал категориальный строй мышления основоположника марксизма и создаваемые им познавательные возможности. В 1991 г. Арон Яковлевич писал о том, что ученым «предстояло расчистить “завалы” догматизма, отказаться от сталинских вульгаризаций и очевидных упрощений». Но пересмотр марксизма не означал уход от него. Напротив, задача формулировалась таким образом: «возвратиться к подлинному и неискаженному марксизму», «заново прочитать Маркса». Это «новое прочтение» дало положительные результаты, у многих «шоры спали с глаз, был положен конец цитатничеству» [18].
Однако большая часть трудов крупного историка-медиевиста посвящалась теории и истории средневековой культуры. Собственно философские его размышления сопутствовали основным исследовательским занятиям, что являлось поводом для недоразумений. В частности, В.М. Межуев полагает, что А.Я. Гуревич обвиняет Маркса «в создании упрощенной, схематической, однолинейной концепции исторического развития». Так, в статье «Теория формаций и реальность истории», опубликованной в журнале «Вопросы философии» [19], Арон Яковлевич усматривает в теории формаций философскую теорию, призванную будто бы служить для исторической науки руководящей инструкцией, тем самым, как замечает Межуев, приписывая Марксу радикально противоположное тому, что тот оценивает в качестве своей задачи: «По существу он критикует не Маркса, а то весьма искаженное изложение его взглядов, которое содержалось в советских учебных пособиях по историческому материализму» [20, с. 18].
Гуревич критикует прежде всего «пятичленную схему» общественно-экономических формаций, которую постоянно использовали в исследованиях советские историки. Но о Марксе отзывается иначе: «…настолько чуток к исторической конкретике, что не был склонен подгонять все бесконечное многообразие истории под жесткую и единообразную схему» [21]. По словам ученого, историки-исследователи очень дословно понимают наследие Маркса, его учение «предопределяет направление мысли историков». То, что входит в марксистскую схему, направляет исследователей, как полагает А.Я. Гуревич, по одному пути - принятие его как идеального варианта исторического развития. Они «вывели марксизм за пределы науки, сделав его предметом веры и компонентом принудительной идеологии тоталитарного строя, что не могло не привести к вульгаризации и прямой фальсификации мыслей Маркса» [22]. Выступая против некритического отношения к К. Марксу и его философии истории, Арон Яковлевич выступает и против дискредитации марксистской историографии, полагая, что многие историки, отказываясь от его философской составляющей, заполняют образовавшийся «философский вакуум чем попало - от мистики и оккультизма до агрессивного национал-шовинизма» [23, с. 74].
Итак, в работах позднего периода жизни исследователь А.Я. Гуревич практически полностью отошел от обсуждения теории социально-экономических формаций К. Маркса, сосредоточившись на вопросах исторической антропологии. Ученого перестали интересовать классовые и экономические вопросы. Доминирующим в его исследованиях стало стремление выявить роль индивида, личности в истории и исторических событиях. Не историческое прошлое, а человек в этом прошлом волновал разум мыслителя, склонного к философской рефлексии и эпистемологическим поискам.
Однако марксистское познавательное настроение – установка на категориальное осмысление исторической реальности, сопротивление схоластически замкнутым схемам понимания исторического процесса – сохранилось в эпистемологическом инструментарии историка «у верстака».
Ссылки:
Список литературы Философия истории А.Я. Гуревича (к опыту осмысления марксистской традиции)
- Ивин А.А. Философия истории: учебное пособие. М., 2000. 528 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 30 т. Т. 3. М., 1954. 630 с.
- Бердяев Н.А. Царство Духа и царство кесаря. М., 1995. 383 с.
- Гуревич А.Я. Двоякая ответственность историка // Общественные науки и современность. 2007. № 3. С. 74-84.
- Ольхов П.А. Диалог и история: экзистенциальные аспекты исторического мышления в XIX-XXI вв.: монография. М., 2011. 232 с.
- ЕОльхов П.А. Историческая реконструкция как диалогический проект: категориально-речевые и нравственные доминанты А.Я. Гуревича // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2018. № 1 (43). С. 21-32.
- DOI: 10.24866/1997-2857/2018-1/21-32
- Гуревич А.Я. Общий закон и конкретная закономерность в истории // Вопросы истории. 1965. № 8. C. 14-30.
- Гуревич А.Я. Некоторые аспекты изучения социальной истории (общественно-историческая психология) // Там же. 1964. № 10. C. 51-68.
- Гуревич А.Я. Роль королевских пожалований в процессе феодального подчинения английского крестьянства // Средние века. 1953. № 4. С. 49-73.
- Кан А.С. А.Я. Гуревич. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967: рецензия // Средние века. Вып. 34. 1971. С. 313-315.
- Markwick R. A.Ia. Gurevich's Contribution to Soviet and Russian Historiography: From Social Psychology to Historical Anthropology // Saluting Aron Gurevich: Essays in History, Literature and Other Related Subjects / ed. by Ye. Mazour-Matusevich, A.S. Korros, Leiden; Boston, 2010. P. 41-67.
- DOI: 10.1163/ej.9789004186507.i-392.8
- Гуревич А.Я. «Генезис феодализма» и генезис медиевиста. Злые мемуары в роли предисловия // Избранные труды. Древние германцы. Викинги. СПб., 2007. 352 с.
- Гуревич А.Я. История - нескончаемый спор: медиевистика и скандинавистика: статьи разных лет. М., 2005. 891 с.
- Гуревич А.Я. Теория формаций и реальность истории // История - нескончаемый спор: медиевистика и скандинавистика: статьи разных лет. М., 2005. С. 366-387.
- Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // История - нескончаемый спор: медиевистика и скандинавистика: статьи разных лет. М., 2005. С. 427-455.
- Гуревич А.Я. Теория формаций и реальность истории // Вопросы философии. 1990. № 11. С. 31-43.
- Межуев В.М. Идея всемирной истории в учении Карла Маркса // Логос. 2011. № 2 (81). С. 3-36.
- Гуревич А.Я. Теория формаций и реальность истории // История - нескончаемый спор: медиевистика и скандинавистика: статьи разных лет. М., 2005. С. 369.