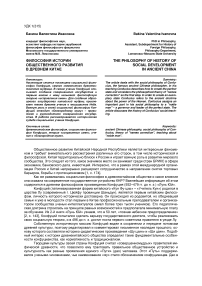Философия истории общественного развития в Древнем Китае
Автор: Бакина Валентина Ивановна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2016 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена социальной философии Конфуция, самого знаменитого древнекитайского мудреца. В своем учении Конфуций описывает создание совершенного государства и первым шагом к нему называет философскую теорию «исправления имен». Для создания образцового государства китайский мудрец привлекает также древнее учение о могуществе Неба. Важную роль в своей социальной философии Конфуций отводит «благородному мужу» - правителю и руководителю совершенного государства. В работе рассматривается историческая судьба социального учения Конфуция.
Древнекитайская философия, социальная философия конфуция, теория "исправления имен", учение о "благородном муже"
Короткий адрес: https://sciup.org/14941040
IDR: 14941040 | УДК: 1(315)
Текст научной статьи Философия истории общественного развития в Древнем Китае
Общественное развитие Китайской Народной Республики является интересным феноменом и требует внимательного рассмотрения различных его сторон, в том числе исторической и философской. Китай территориально близок к России и играет важную роль в развитии мирового сообщества. Это следует из того, какое значимое место он занимает среди стран БРИКС в сфере экономики, банковского дела, инвестиций. Интересно, что в рамках этой международной организации Россия и Китай непрерывно расширяют сотрудничество в направлении снятия торговых барьеров, борьбы с протекционизмом [1, с. 174].
Как же развивалась социальная философия в древнекитайском обществе и какое влияние она оказала на современное государственное устройство КНР? Важнейшая информация об этом содержится в древнем философском произведении Конфуция (552–479 гг. до н. э.) «Лунь Юй».
Конфуций (латинизированная форма китайского «Кун Фу-цзы» – «Учитель Кун») родился в царстве Лу (современный г. Цюйфу провинции Шаньдун), является первым китайским философом, личность которого исторически достоверна. Он происходил из родовитой, но обедневшей семьи и уже в молодости стал первым в Китае профессиональным преподавателем и организатором сообщества ученых-интеллектуалов (имел более трех тысяч учеников). Его педагогическая доктрина строилась на принципе равных возможностей и предполагала минимальную плату за обучение. Из 2-й книги «Лунь Юй» узнаем, что в 50 лет, «познав небесное предопределение» [2, с. 143], Конфуций попытался сделать карьеру государственного деятеля, чтобы реализовать свою социальную теорию, и в 496 до н. э. достиг поста первого советника правителя в уезде Лу.
Собственную историческую миссию Конфуций видел в сохранении и передаче потомкам древней культуры, поэтому редактировал и комментировал письменное наследие прошлого, основу которого составляли историко-дидактические произведения «Шу цзин» и «Ши цзин». Подобный интерес к истории древнекитайского общества определил такие фундаментальные особенности конфуцианства, как нормативность и традиционализм.
Творцами культуры своей страны Конфуций считал «совершенномудрых» правителей мифической древности, что позволило ему трактовать правильное общественное устройство и культурность как разные проявления единого «Пути» (дао) человека. Этот «Путь» поддерживался учеными-чиновниками, чье наименование «жу» стало обозначением конфуцианцев. Дао в конфуцианстве означает «взаимность» (забота о людях), «золотая середина» (граница в поведении людей между несдержанностью и осторожностью), «человеколюбие» (почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям) [3, с. 34].
При династии Хань во II в. до н. э. конфуцианский подход к социальному учению был высоко оценен государственной властью и эта философия получила статус официальной идеологии, а Конфуция приравняли к совершенномудрым правителям древности.
Конфуцианцы являются общественниками, и в центре внимания их философского учения находятся взаимоотношения между людьми, проблемы воспитания и управления государством [4, с. 33]. А управлять государством – это тяжелый труд, и чиновник должен быть осторожным, поэтому Конфуций поучает своих учеников: «Когда в государстве осуществляются правильные принципы, то можно прямо говорить и прямо действовать. Когда же в государстве не осуществляются правильные принципы, действовать можно прямо, но говорить осторожно» [5, с. 164]. Кроме осторожности в управлении государством нужно проявлять и сосредоточенность: «Надо постоянно быть в напряжении, вести дела с чувством преданности вышестоящим» [6, с. 160].
Кун Фу-цзы, как это и полагается социальному реформатору, был недоволен современным ему государством, поэтому он давал различные советы по усовершенствованию управления страной. Например, необходимо следить за поведением чиновников, чтобы они почитали верховных правителей, а не устраивали государственные перевороты и заговоры против них: «Мало людей, которые, будучи почтительными к родителям и уважительными к старшим братьям, любят выступать против вышестоящих. Совсем нет людей, которые не любят выступать против вышестоящих, но любят сеять смуту» [7, с. 140].
Конфуций приводит причины появления смут в государстве: «Когда любят отвагу и ненавидят бедность, это может привести к бунту; когда очень ненавидят людей, лишенных человеколюбия, это также может привести к бунту» [8, с. 155].
Следует заметить, что древнекитайский мудрец не только обучал созданию совершенного государства, но и советовал своим ученикам, при каком государственном устройстве можно жить, а какого следует избегать: «В любви к учению опирайтесь на искреннюю убежденность; стойте до смерти за правильное учение. Не посещайте государство, где неспокойно; не живите в государстве, где беспорядки. Если в Поднебесной царит спокойствие, будьте на виду; если в Поднебесной нет спокойствия, скройтесь. Если государство управляется правильно, бедность и незнат-ность вызывают стыд. Если государство управляется неправильно, то богатство и знатность также вызывают стыд» [9].
Однако социальные идеалы Конфуция не в будущем, а в прошлом. Культ прошлого – характерная черта всего древнекитайского философского мировоззрения. В древности, как отмечал Конфуций, на мелочи не обращали внимания и вели себя достойно, отличались прямотой, учились совершенствовать себя, избегали людей с грубыми выражениями и некрасивыми манерами, избегали общества, где нет порядка. Теперь же людей, понимающих государственную службу, мало, принципам долга они не следуют, учатся ради известности, а не ради самосовершенствования, занимаются обманом, срывают свой гнев на других. Чиновники устраивают ссоры, не умеют исправить свои ошибки [10, с. 165]. Отметим, что, идеализируя древность, Учитель рационализирует свое учение о государственной власти. Думая, что он воскрешает старое, он создает новое философское учение для управления государством.
Кун Фу-цзы признавал, что «все течет» и что «время бежит, не останавливаясь» [11, с. 157]. Но тем более надо заботиться о том, чтобы в обществе все оставалось неизменным. Каким же образом можно этого достичь, с чего начать управление государством? С «исправления имен» («чжэн мин»), утверждает Конфуций в своей книге «Лунь Юй». Конфуцианское «исправление имен» означало не приведение общественного сознания в соответствие с изменяющимся общественным бытием, а попытку привести вещи в соответствие с их былым значением. Поэтому Кун Фу-цзы учил, что государь должен быть государем, сановник – сановником, отец – отцом и сын – сыном, учитывая древность: «Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают. Если ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим образом. Если наказания не применяются надлежащим образом, народ не знает, как себя вести. Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять. В словах благородного мужа не должно быть ничего неправильного» [12, с. 162].
Философский смысл учения об «исправлении имен» состоит в том, что социальная роль каждого члена общества должна быть не номинальной, а реальной. Это значит, что государь, чиновник должны не только так называться, но и обладать всеми правами и обязанностями, вытекающими из этих наименований.
Когда на занятиях по философии рассматривается это социальное учение Конфуция, студенты разных факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по-разному выказывают свое отношение к нему. Философы и журналисты в основном соглашаются с Конфуцием в том, что с помощью слова, имени можно что-то изменить в обществе к лучшему. Физики и китайские студенты-филологи находят странным социальное учение своего знаменитого соотечественника об «исправлении имен» и тем более совершенно невероятным то, что с его помощью можно что-то изменить в управлении государством.
В этом случае мне как преподавателю следует напомнить студентам, что социальная теория Конфуция не появилась на пустом месте, и она требует уважительного к себе отношения. Ведь «имя», «слово» в древней философии отличались важным содержанием в мировоззрении мыслителей и на Западе, и на Востоке. Например, в древнеиндийской философии «имени», «слову» (вач) отводилась ключевая роль не только в социальном, но и в космологическом учении. Почитание «имени», «слова» как социальной и магической силы свойственно многим обществам, но только в Индии оно становится основой уникальной устной традиции. Идея звучащего «слова» восходит к Ведам, древнеиндийским текстам. Вач – это не просто язык богов и людей, но и персонифицированная абстрактная сила, одна из великих богинь ведийского пантеона. Эта богиня дает людям богатство и власть. Вместе с тем она говорит то, что угодно богам и людям (являясь тем самым посредницей между ними). Возвеличивая людей, она возвещает следующие слова о своем могуществе: «Кого возлюблю, того делаю могучим, того – брахманом, того – мудрым» [13, с. 283].
В древнегреческой философии «слово» (логос) стало популярным в истории философии и представляло собой пример отвлеченно-философского понятия [14, с. 199]. Исследованием философского понятия «логос» занимались многие отечественные и зарубежные исследователи античной философии, отмечая его многозначность: 1) слово, имя, речь; 2) мистическое божественное слово; 3) божество, управляющее миром и обществом; 4) верховный разум, лежащий в основе мироздания; 5) всеобщий закон, согласно которому совершаются изменения и взаимопревращения в обществе и космосе. В продолжение сказанного уместно привести мнение профессора А.Н. Чанышева, считавшего «логос» идеей меры, разумным словом и объективным законом мироздания [15, с. 135].
Рассматривая подобные примеры об «имени», «слове» в древних текстах, следует ли удивляться, что «имя» и «слово» имеют такое огромное значение в социальной философии Конфуция. Учение Конфуция, самое влиятельное идеологическое и социальное направление в Китае, в том числе и его теория «исправления имен», сыграли немаловажную роль в застойности Древнего и средневекового Китая. Ведь, например, быть сыном означало соблюдать ритуал сыновней почтительности, который включал в себя наряду с рациональным и гуманным и чрезмерное. Например, после смерти отца сын ничего не мог менять в доме в течение трех лет. Быть правителем (ваном) означало соблюдать ритуал (ли), который существовал в ранней истории Китая.
Для создания своего совершенного государства Конфуций использует не только земные средства «имя» и «слово», но и космические. Имеется в виду древнекитайская философия Неба. Ранее уже отмечалось, что социальные проблемы были главенствующими в философских размышлениях древнекитайских мудрецов. В Китае, в отличие от древних философий других стран, космогонические теории, а точнее учение о Небе, выдвигались мыслителями не столько для обоснования происхождения бесконечного многообразия природных явлений, сколько для объяснения первоосновы государства и власти правителя.
Вопрос о Небе как о первопричине происхождения всего сущего и верховном владыке (Шан-ди) занимал важнейшее место в социальном учении Древнего Китая. Отсюда возник термин «Поднебесная», ставший синонимом страны, государства. С подобным мировоззрением о Небе и земном владыке, Сыне Неба, который правит согласно небесному повелению, встречаемся в древнекитайском произведении «Ши цзин». Все свои помыслы обращали древние китайцы к Небу, так как от него (верховного владыки) зависели и личная жизнь, и дела государства. Могущество Неба было отражением могущества правителя Поднебесной:
«Широко кругом простирается Небо вдали.
Но нету под Небом ни пяди нецарской земли.
На всем берегу, что кругом омывают моря, –
Повсюду на этой земле только слуги царя!» [16, с. 19].
Величие земного правителя в этом произведении получало небесное оправдание и поддержку, а государственный аппарат был представлен как аппарат служения Небу.
Конфуций в своей философии в целом разделял традиционные представления о Небе, изложенные в «Ши цзине», и почитал Небо как грозного и сверхъестественного повелителя, обладающего при этом известными антропоморфическими свойствами. Небо в социальном учении Конфуция определяло для каждого человека его место в обществе, награждало или наказывало.
Верховная власть Сына Неба (правителя) священна, и только на нее, представляющую волю Неба, может опираться общественная и государственная жизнь.
Кроме указанных социальных функций Неба Конфуций говорил и о необходимости страха людей перед ним, перед его карающей силой: «Не о чем молиться тому, кто провинился перед Небом» [17, с. 143]. И благородный муж (государственный деятель) должен испытывать подобный страх.
Кто же этот благородный муж, как Конфуций характеризует человека, управляющего государственными делами? «Благородный муж в доброте не расточителен; принуждая к труду, не вызывает гнева; в желаниях не алчен; в величии не горд; вызывая почтение, не жесток» [18, с. 174].
Что нужно делать государственному правителю, чтобы быть нерасточительным? «Приносить народу пользу исходя из того, что полезно для народа. Разве это не доброта без расточительности? Кто в народе будет гневаться, если труд народа будет посильным? О какой алчности может идти речь, если, желая обладать человеколюбием, достигаешь ее? Благородный муж, не делая различий между толпой и одним человеком, низкостоящими и высокостоящими, не проявляет инертности. Разве это не величие без гордости? Благородный муж содержит в порядке свою одежду и головной убор, он смотрит с уважением. Благодаря его достоинству народ, глядя на него, чувствует почтение. Разве это не вызывание почтения без жестокости?» [19].
Мы уже говорили, что Конфуций полагал высшей мироуправляющей силой Небо (тянь). Ниспосылаемое им «предопределение» (мин) может и должно быть познано человеком, который только в таком случае способен стать «благородным мужем» (цзюнь цзы), т. е. нормативной личностью, сочетающей в себе идеальные духовно-моральные качества и право на высокий социальный статус. Антагонист «благородного мужа» – «маленький человек» (сяожэнь), руководствующийся выгодой: «Благородный муж думает о долге, а маленький человек – о выгоде» [20, с. 148]. Учитель сказал: «Если верхи следуют в делах правилам ритуала, то народом легко будет управлять» [21, с. 166].
Одно из главных мест в социальных воззрениях древнекитайских мыслителей занимала проблема умиротворения общества и эффективного управления государством. Конфуцианство, выражавшее по преимуществу интересы родовой знати, господство которой приходило в упадок, подвергалось серьезным ударам со стороны новых богатых людей из числа зажиточных свободных общинников, ремесленников и купцов, новых землевладельцев. Конфуций полагал, что основой порядка в стране является «ли» – понятие, многогранное по своему содержанию, которое переводится как «ритуал», «почтительность», «благопристойность».
Ли включало широкий круг традиционных правил, с помощью которых наследственная аристократия осуществляла свое господство. На вершине этой иерархической системы находился Сын Неба – тяньцзы, в царствах правили его наместники – ваны, связанные с тяньцзы кровнородственными отношениями.
Главным субъектом, который должен осуществлять принцип ли, являлся именно благородный муж – идеализированный образ правителя. Соблюдение ли должно было, по мысли Конфуция, обеспечить вечное и неизменное господство наследственной аристократии. Чтобы укрепить пошатнувшееся господство аристократии, восстановить престиж и былое положение знатных родов (к которым принадлежал и сам мыслитель), Конфуций в своем произведении «Лунь Юй» создает образ благородного мужа, управляющего государством.
Для формирования такого государственного руководителя необходимо преодоление им самого себя и возвращение к «благопристойности» (ли), результатом чего становится торжество «гуманности» (жэнь) в Поднебесной. «Благопристойность» – это внешняя социальная норма, а «гуманность» – внутренняя, и они составляют основу конфуцианского учения об управлении государством.
Как следует вести государственные дела? Конфуций писал: «Нужно, чтобы было в достатке продовольствие, чтобы было в достатке военное снаряжение и чтобы народ доверял своему правителю» [22, с. 160]. Главное, чтобы в народе была вера в правителя и его близких, тогда государство будет устойчивым [23].
Наличие следующих качеств Конфуций считает недопустимым для руководителя государства: «Если [народ] не поучать, а убивать – это называется жестокостью. Если [народ] не предупредить, а затем [выразить недовольство], увидев результаты [труда], – это называется грубостью. Если настаивать на быстром окончании [работы], прежде дав указание не спешить, – это называется разбоем. Если обещать награду, но поскупиться ее выдать – это называется жадностью» [24, с. 174].
В целом социальная доктрина Конфуция основывается на приоритете моральных ценностей над любыми иными видами общественной жизни (административными, экономическими, правовыми), которые выдвигались на первый план другими философскими школами: легизмом, даосизмом. Социальная победа конфуцианства над всеми конкурировавшими учениями в Древнем Китае обеспечила его создателю особый статус духовного вождя и святого мудреца, сохранявшийся за ним в Китае до начала XX в.
Возникший после падения империи в 1911 г. негативизм по отношению к Конфуцию как главному символу консерватизма и традиционализма достиг апогея в кампании, развернувшейся в КНР в 1960-е гг. Однако в 1980-х гг. эта тенденция сменилась на противоположную, стало усиливаться внимание к Конфуцию как родоначальнику национальной идеи. Социальная философия Конфуция широко распространена в современном Китае. Ее уважают и ею гордятся, что хорошо известно автору статьи из многолетнего опыта общения с китайскими студентами МГУ. В 1985 г. в КНР был создан Научно-исследовательский институт по изучению Конфуция.
К социальному учению Конфуция возвращались известные китайские философы и в последующие века. Выдающийся философ и литератор Хань Юй (768–824 гг.) в своих произведениях «Первоначальная истина» и «Первоначальная природа человека» представил свою систему социальной философии как «преемственность истинного учения». В этом учении Хань Юй возвращается к философским социальным категориям Конфуция: справедливости, человеколюбия, государственного управления [25, с. 285].
Следует отметить, что в Китае социология как наука возникла на рубеже XIX и XX столетий, когда прогрессивно настроенные общественные деятели этого государства стали инициаторами движения за распространение общественных наук, что могло послужить теоретической основой социальных реформ. Этих ученых можно разделить на две группы: восточную – тех, кто прошел обучение в Японии, и западную – тех, кто обучался в Европе и в США. Термин «социология» поначалу был переведен на китайский язык как «учение о группах людей» [26, с. 131].
К первой группе принадлежал Чжан Бинлинь (1869–1936 гг.) – историк и философ, один из первых популяризаторов социологии в Китае. По его мнению, люди склонны к объединению в сообщества, к совместным действиям, в результате чего появляется деление на профессии и ранги. Чжан Бинлинь рассматривал социологию как универсальный предмет, являющийся ключом к пониманию закономерностей жизнедеятельности общества. В своих представлениях относительно развития общества он опирался на такие понятия конфуцианской социальной этики, как «жэнь» (гуманность, любовь к людям) и «ли» (долг, справедливость, ритуал).
К западной группе китайских социологов относится Янь Фу (1853–1921 гг.), автор ряда переводов западноевропейских социологических учений XVIII–XIX вв. Он пытался донести до китайского читателя эволюционную концепцию развития мира, передать с помощью категорий традиционной науки понятия «эволюция», «борьба за существование», «естественный отбор».
Однако социология как наука получила признание в Китае только после буржуазно-демократической революции 1911–1913 гг., которая свергла монархию. В новых общественных условиях она развивалась прежде всего как учебная дисциплина в университетах. Так, университет «Фудань» (в Шанхае) стал первым университетом в Китае, где был образован социологический факультет.
Современная социология в Китае призвана способствовать развитию и стабильности общества рыночного типа, избегая при этом копирования иностранных моделей в практической деятельности. По мнению российских социологов, «практические и теоретические социологические исследования, будучи взаимообусловленными, способствуют углубленному развитию китайского общества» [27, с. 58].
Приведем высказывание известного китайского социолога Пан Давэй о том, что социология характеризуется национальным характером. По его мнению, социологическая теория, с одной стороны, имеет всеобщее методологическое значение, а с другой – получает свое дальнейшее развитие только в конкретной стране [28, с. 136].
В заключение необходимо указать, что в своем труде «Лунь Юй» Конфуций постоянно возвращался к важнейшей теме своего учения – социальной философии. Этой же теме он посвящает и последние страницы своего произведения, которое уже более двух тысячелетий изучают не только китайцы, но и люди в других странах: «Не зная воли неба, нельзя стать благородным мужем. Не зная ритуала, нельзя утвердить себя в обществе. Не зная, что говорят люди, нельзя узнать людей» [29, с. 174].
Ссылки:
-
1. Развитие стран БРИКС в глобальном пространстве. М., 2015.
-
2. Конфуций. Лунь Юй // Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972.
-
3. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981.
-
4. Там же. С.33.
-
5. Конфуций. Указ. соч. С. 164.
-
6. Там же. С.160.
-
7. Там же. С.140.
-
8. Там же. С.155.
-
9. Там же.
-
10. Там же. С.165.
-
11. Там же. С.157.
-
12. Там же. С.162.
-
13. Ригведа. Мандалы IX–X. М., 1999.
-
14. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. М., 1972.
-
15. Чанышев А.Н. Указ. соч. С. 135.
-
16. Древнекитайская философия. Т. I. М., 1972.
-
17. Конфуций. Указ. соч. С. 143.
-
18. Там же. С.174.
-
19. Тамже.
-
20. Там же. С.148.
-
21. Там же. С.166.
-
22. Там же. С.160.
-
23. Тамже.
-
24. Там же. С.174.
-
25. История китайской философии. М., 1989.
-
26. Пан Давэй. К истории социологии в Китае // Социологические исследования. 2009. № 4.
-
27. Осипова Н.Г. Социология в странах Азии, Африки и Латинской Америки: ключевые фигуры // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2013. № 4.
-
28. Пан Давэй. Указ. соч. С. 136.
-
29. Конфуций. Указ. соч. С. 174.
Список литературы Философия истории общественного развития в Древнем Китае
- Развитие стран БРИКС в глобальном пространстве. М., 2015.
- Конфуций. Лунь Юй//Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972.
- Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981.
- Ригведа. Мандалы IX-X. М., 1999.
- Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. М., 1972.
- Древнекитайская философия. Т. I. М., 1972.
- История китайской философии. М., 1989.
- Пан Давэй. К истории социологии в Китае//Социологические исследования. 2009. № 4.
- Осипова Н.Г. Социология в странах Азии, Африки и Латинской Америки: ключевые фигуры//Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2013. № 4.