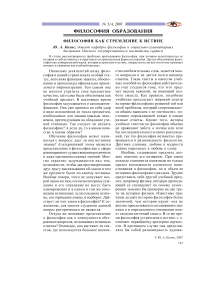Философия как стремление к истине
Автор: Килис Ю.А.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Философия образования
Статья в выпуске: 3-4 (48-49), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы преподавания философии, при котором акцентируются ее история и субъективность и практикуется произвольная форма изложения. Дается обоснование философии как универсальной науки, которая устремлена к истине, опирается на логику и поэтому вызывает интерес и уважение как учебный предмет.
Короткий адрес: https://sciup.org/147136365
IDR: 147136365
Текст краткого сообщения Философия как стремление к истине
В статье рассматриваются проблемы преподавания философии, при котором акцентируются ее история и субъективность и практикуется произвольная форма изложения. Дается обоснование философии как универсальной науки, которая устремлена к истине, опирается на логику и поэтому вызывает интерес и уважение как учебный предмет.
Несколько десятилетий назад философия в нашей стране имела особый статус, исполняя функцию защиты, обоснования и пропаганды официально приемлемого мировоззрения. Тем самым она во многом утратила свое предметное качество, зато сама была обоснована как учебный предмет. В настоящее время философия задумывается о самоидентификации. Она уже приняла на себя удар в виде исключения из числа предметов, необходимых для знания каждым человеком, претендующим на обладание ученой степенью. Так следует ли изучать философию? А если да, то в каком качестве и каким образом?
Обучение философии может начинаться с вопроса: дает ли она истинное знание? Альтернативой этому является представление о философии как о сфере равноправного существования различных и даже противоположных мнений. Многие серьезно задумываются над тем, возможно ли, чтобы два противоречащих друг другу высказывания об одном и том же предмете были по-своему истинны. Вообще говоря, этого не допускает второй закон логики, согласно которому суждение и его отрицание не могут быть одновременно и в одном и том же отношении истинными: если суждение истинно, его отрицание ложно, и наоборот. Действует ли этот закон в философии? К сожалению, для многих студентов данный вопрос риторическим не является.
Откуда же возникает представление о философии как о совокупности абстрактных вопросов, не имеющих истинных ответов? Очевидно, оно вытекает из текстов, где используется большое количе ство необязательных слов, задается много вопросов и не дается почти никаких ответов. Такие тексты в качестве учебных пособий по философии действительно учат студентов тому, что этот предмет весьма неясный, не имеющий особого смысла. Как правило, подобные учебники предлагают широкий спектр историко-философских решений той или иной проблемы, который сопровождается общим выводом о ее «вечности», постоянно порождающей новые и самые разные ответы. Кроме того, авторы учебных текстов по философии обычно не проявляют заботу о логике или хотя бы последовательности своих рассуждений, так что философия незаметно превращается в разновидность филологии. Другими словами, любовь к мудрости плавно перетекает в любовь к слову.
Вообще, содержание предмета должно отвечать его названию. При таком подходе становится понятным не только предел возможности алогичного повествования в философии, но и объем ее историко-философского раздела. Трудно представить себе другой учебный предмет, например физику, которую преподающий ее специалист по своему усмотрению заменил бы примерно на две трети на историю физики. Известные причины делают историю философии более значимой, чем история науки: она не вполне преодолевается сегодняшним знанием и в определенном отношении имеет самодостаточный смысл. В то же время философия устремлена к истине, т. е. отвечает первейшему критерию научности. В противном случае она представляла бы собой разновидность художе-
ственного слова, поскольку серьезная литература тоже обращена к философским по своей сути проблемам.
Мы не имеем ничего против истории и литературы, тем более относящихся к философии, но предпочитаем называть вещи своими именами. Это помогает понять место и рациональный объем необходимой исторической части предмета философии и не подменять ее другим предметом. Строго говоря, нечестно скрывать свою мировоззренческую неопределенность за акцентированным интересом к истории философии, который превращает последнюю в сферу сопоставления различных, ни к чему не обязывающих мнений и лишь усиливает духовную дезориентацию студентов.
Если отечественная философия советского периода предлагала определенные, пусть и не всегда корректные, решения, то возникшая в последние годы относительная свобода философской мысли породила некоторую растерянность. В этой связи возникает вопрос общего порядка: должен ли преподаватель философии быть философом? Действительно, учитель литературы не является литератором, а учитель истории — историком. Но ведущий преподаватель вуза, способный подготовить авторскую рабочую программу по своему предмету и, как правило, имеющий ученую степень, не должен ограничиваться повторением за другими. Он вполне может принять ответственность на себя, опираясь на собственные интеллектуальные силы. Возможно, именно стремление избежать ответственности за конкретные решения философских вопросов побуждает некоторых преподавателей останавливаться только на комментариях чужих ответов и решений. Однако студенту (особенно если он не историк и не философ) важно не столько то, кто из мыслителей прошлого, когда и как подходил к истине или заблуждался, а действительное, истинное решение проблем, волнующих его лично сегодня.
Следует уточнить, что философия не равна науке, поскольку это особая тео ретическая сфера, в которой решаются наиболее общие вопросы и выделяются существенные характеристики мира и человека. Любая наука имеет отличную от философии цель, изучая не всеобщие смыслы, а конкретные фрагменты реальности. Однако философия и наука близки друг другу тем, что используют общие, рациональные, методы познания. Уровень философского знания не предполагает экспериментальной проверки, однако философия пользуется как логическим доказательством, так и специальным языком. Она имеет свой категориальный аппарат, применяя универсальную терминологию. Кроме понятий и категорий, философия использует метафоры — при условии их устойчивого и однозначного употребления.
В основе философской аргументации лежит логика, являющаяся важнейшим инструментом философского поиска. Логика может и должна быть предложена студентам для совместного постижения философских истин на семинарских занятиях. Рассмотрим, например, методологию решения такой важной философской проблемы, как понимание смысла человеческой жизни. Казалось бы, она склоняет к словесным спекуляциям общего порядка о том, что данный вопрос имеет большое значение, а каждый человек — право на его собственное, едва ли не уникальное решение. Однако субъективность в понимании смысла жизни имеет свои пределы, а философия должна показать истинное направление мысли, предостерегая ее от неверных ходов, как это делает сказочный камень на перепутье трех дорог. Можно рассмотреть данную проблему в некоторой последовательности, начав с обоснования самой ее постановки, продолжив корректным определением понятия смысла как такового и завершив примерами положительных, логически непротиворечивых решений. Разумно остановиться при этом на трех типичных ошибках в понимании смысла жизни: логической тавтологии («действовать, чтобы действовать», «жить, чтобы жить»), усмотрении смысла конкретной деятельности и жизни в средствах их обеспечения («жить, чтобы есть») и на подмене смысла целью.
Возвращаясь к признакам научности, можно говорить об эмпирической проверке истины философского знания самой человеческой жизнью, т. е. экзистенциально. Так, если два человека противоположным друг другу образом понимают смысл жизни, в результате чего один счастлив, а другой хочет из этой жизни уйти, разве это не является подобного рода косвенной проверкой? Справедливо говорить и о том, что процессы, происходящие в мире, прямо подтверждают не только законы природы, но также универсальные принципы и законы, изучаемые философией. В этом смысле не будет ошибкой считать философию универсальной наукой.
Основополагающая часть философского знания — онтология. Прежде чем изучать возможности и методы познания или преобразования мира, экзистенциальные и общесоциальные проблемы, следует обратиться к постижению основ бытия. Можно начать с вопроса: хаотичен ли мир или упорядочен? Если верно второе, то существуют ли принципы такого порядка? Несложно объяснить, например, принцип связи, без которой никакое целое не сможет удержать в себе свои части и существовать в рамках большего целого. Важнейший аспект использования логики в процессе философского познания истины — аналогия. Не случайно было сказано: подобное стремится к подобному (Гераклит); то, что внизу и снаружи, подобно тому, что вверху и внутри (Гермес Трисмегист).
Не потерял своей актуальности основной вопрос философии, рассматривающий приоритет материального или идеального едва ли не во всех философских проблемах, и в частности в проблеме происхождения мира. К последней также можно подойти при помощи аналогии, рассуждая о том, как часто мы встречаемся со случайным самопроизволь ным возникновением более совершенных форм из менее совершенных. Нетрудно заметить, что это происходит только при помощи разумной человеческой деятельности. Таким образом, материалистическая идея о стихийном, случайном возникновении жизни и самого материального мира оказывается логически уязвимой.
По определению, философия стремится к мудрости, а мудрость невозможна без обладания истиной. Говорят, что философия находится в вечном поиске и не обладает предельно полным и точным знанием. Однако то же справедливо по отношению к любой науке и познанию в целом. Иногда утверждают, что философы отличаются от мудрецов (софосов) тем, что первые только стремятся к мудрости, а вторые уже обладают ею. Используя эти понятия, заметим, что философы также бывают мудрецами, потому что любить можно не только отсутствующее. Почти за три тысячи лет своего развития философия не случайно и определенным образом освоила существенную часть смыслового пространства наиболее общих проблем, проходя через многие прозрения и доказательства, жесткие противостояния и характерные ошибки. В конечном счете этот процесс можно считать постижением фундаментальных истин — уточнением вопросов, понятий и ответов, созиданием сложного узора философского знания, где есть главное и второстепенное, существенные аспекты и малые нюансы.
Истина сверхсубъективна. Обыденное сознание людей и отражающая его философия склоняются к преувеличению роли человеческой субъективности, значимости индивидуальных решений основных мировоззренческих проблем. Известно, что люди по-разному воспринимают окружающий мир. Это зависит не столько от того, какой стороной он к ним поворачивается, сколько от самих людей. Важнейшей способностью восприятия внешнего является умение максимально отвлекаться от своих личных качеств, в чем классическая философия видела идеальное познание. Разумеется, абсолютная объективность истины недостижима; утверждать обратное после Канта справедливо считается проявлением философского невежества. Однако важно отметить недопустимость противоположного подхода к истине, когда она полагается произвольной человеческой конструкцией. Если нельзя быть полностью «объективным», следует стремиться к минимальной субъективности и не прибегать к опасному правилу «каждый по-своему прав», которое подрывает любые правила вообще.
Философия бывает научной и художественной. Первая интересуется истиной и смыслом, вторая — самовыражением. Возьмем, например, крупную работу Н. А. Бердяева «Смысл творчества». В ней подробно говорится о том, каким должно быть творчество, как оно проявляется и какие решает проблемы. На последней странице своего сочинения философ, выступающий против научности своего предмета, пишет: «Неизъяснимо, что есть творчество»1. Но в чем же его смысл, заявленный в названии? По Бердяеву — в освобождении. Творчество невозможно без свободы, поэтому творческая деятельность человека доказывает, что он свободен. Но тогда смысл свободы — в творчестве, а не наоборот. Мы искали смысл творчества и были привлечены к этой работе ее названием, а нашли утверждение о невозможности получить истинное знание. Автор этих строк с трудом представляет себе преподавателя философии, который заключил бы рассмотрение вопроса о сути творческой деятельности словами о том, что она непостижима.
Беллетристика показывает красоту слова с проблесками истины, а философия — наоборот. Художественно-философская рефлексия развлекает сочувственно мыслящих, а научная философия дает действительное понимание сущности мира и места в нем человека. Говоря иронически, ненаучная философия от личается от художественной литературы тем, что не описывает событий. Готовясь к экзамену по философии, студенты оказываются в большом затруднении, ведь она не предлагает истинного знания, а только рассуждает, более или менее красиво, о самих вопросах. В лучшем случае подготовка становится запоминанием историко-философских подходов к той или иной проблеме.
Как известно, философия является рефлексией мировоззрения в особой форме. Можно не заниматься такого рода отражением, но нельзя не иметь самого мировоззрения, которое включает в себя не только понимание смысла жизни, но и общее представление о мироустройстве, понимание взаимосвязи случайного и необходимого, переживание тех или иных высших ценностей и т. п. В противовес рассуждениям о «бесполезности» философского знания2 следует подчеркнуть, что философия небесполезна. Именно поэтому к ней нельзя относиться равнодушно: она всех касается, а некоторых даже задевает. Многие люди полюбят философию, если освободить ее от неясных мыслей. Вопреки мнению несведущих, философия академична лишь по форме, а по своему смыслу и содержанию она отвечает насущным человеческим запросам, вытекающим из самой жизни.
Итак, философия устремлена к истине и способна владеть ею в не меньшей степени, чем любая наука или познание в целом. Философия выделяется из ряда наук не тем, что она якобы не достигает истины, а своим вниманием к наиболее общим вопросам, высшим смыслам и фундаментальным причинам. Важнейшим инструментом философского познания является достаточно строгая логика, которая помогает постичь истину. Историю философии знать необходимо, но история предмета не может заменить его самого, как воспоминания не могут заменить жизнь. Истина в философии и любой сфере познания возможна только при том, что она выходит за пределы субъективности. Так называемая художественная философия имеет право на существование, однако она рискует утратить свой предмет и стать разновидностью филологии.
Особенное значение такое понимание философии имеет для ее преподавания и соответственно изучения. Если философия рассматривается как стремление к истине, она имеет очевидный смысл и вызывает уважение. Такая философия интересна, она затрагивает жизненные интересы каждого человека, даже если склад его ума не является гуманитарным. Устремленная к истине философия изучается не как совокупность чьих-то мнений или изящное повествование, а как позитивная универсальная наука.