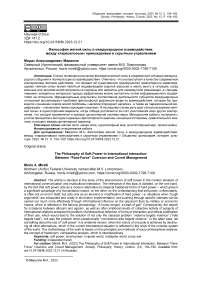Философия мягкой силы в международном взаимодействии: между «парасиловым» принуждением и скрытным управлением
Автор: Мирелли М.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению феномена мягкой силы в современной ситуации международного общения и поликультурного взаимодействия. Отмечено, что она выступает в качестве современной альтернативы жестким действиям, что придает ей существенное преимущество гуманитарного характера, однако «мягкая сила» может являться модификацией скрытой агрессии и иметь место в ситуации, когда военные или экономические аргументы исчерпаны или затратны для сиюминутной реализации, а «продавливание» конкретных интересов гораздо эффективнее можно выполнить путем информационного воздействия на оппонента. Иррациональные результаты коллективной деятельности субъектов международных отношений актуализируют проблему философской рефлексии форм их взаимодействия, которые бы приводили к решению классической проблемы «насилие порождает насилие», а также ее парадоксальной модификации - «ненасилие также порождает насилие». В последнем случае речь идет об использовании «мягкой силы» в одностороннем варианте, когда победа достигается за счет уничтожения всех других альтернатив, что сегодня проявляется в кризисе однополярной системы мира. Методология работы построена с учетом принципов и методов социально-философского анализа, концепции историзма, сравнительного анализа, носящего междисциплинарный характер.
Мягкая сила, умная сила, однополярный мир, многополярный мир, прокси-война
Короткий адрес: https://sciup.org/149144739
IDR: 149144739 | УДК: 141.2 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.21
Текст научной статьи Философия мягкой силы в международном взаимодействии: между «парасиловым» принуждением и скрытным управлением
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия, ,
Arkhangelsk, Russia, ,
С момента введения термина «мягкой силы» американским политологом Джозефом Наем (Nye, 1990) данное тематическое множество в научной среде существенно увеличилось в размерах, включило в себя различные теоретические подмножества, вступило в соотношение со многими областями гуманитарного знания. Сегодня лишь условно можно классифицировать «мягкую силу» по сферам ее приложения и методам исследования. Несмотря на известную дефрагментацию социально-философского понимания и знания в современную эпоху (Макулин, 2023), общим тематическим лейтмотивом остаются некие теоретические преференции этого явления перед его антагонистом – «жесткой силой». Известно, что последняя, воплощающаяся в основном в военных способах своей реализации, о чем свидетельствует историческая ретроспектива, всегда осуждалась как с общемировоззренческих позиций, так и с нравственных, вплоть до чисто экономической нецелесообразности. Иначе обстоит дело с «мягкой силой». Само ее название как бы подчеркивает некую условную «гуманность» осуществляемых принудительных действий, когда что-либо навязывается, но делается это так, как еще А.С. Пушкин выразил словами: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»1. «Мягкую силу» условно можно назвать парасилой (греч. πᾰρά «возле, около; мимо; вне; наряду»), поскольку она действует на что-либо не прямым, а опосредованным путем, что не выдает в ней первоначального силового содержания.
В научно-философской литературе существует известная полемика по поводу того, что именно считать «мягкой силой» и чем она отличается от «жесткой». Так, нельзя проигнорировать мнение Брэнтли Вомэк (Womack, 2005), указывавшего на «аналитическую размытость» рассматриваемого понятия и выдвигавшего сомнение в возможности противопоставления его силе «жесткой».
Различные исторические примеры применения «мягкой» (умной) силы в дипломатии, культурном взаимодействии и даже различного рода конфликтах, имевшие место на протяжении всей истории человечества, проявились наиболее ярко и в полную силу именно в XX столетии, в эпоху качественного скачка в развитии средств коммуникации и информационного воздействия. Влияние греческих культурных образцов на римлян, античного наследия на культуру Ренессанса или французского языка на российских аристократов меркнет перед информационной мощью современных медиа.
Из сказанного следует, что достижения некоторых стран в области создания культурных образцов, модных брендов, которые перенимаются остальным человечеством почти некритично, никогда бы, видимо, не получили распространения подобных масштабов, если бы не возникли телевидение и свободный доступ к Интернету с помощью мобильного устройства, которые оставили далеко позади такие революционные изобретения человечества, как письменность, книгопечатание, газеты, радио и даже стандартный телефон.
Из вышеупомянутой технической эволюции средств коммуникации и их современного влияния на способность одних культур воздействовать на другие следует, что сам феномен «мягкой силы» многосоставный и многослойный, но в первую очередь он обусловлен стратегией использования национальных преимуществ.
Видимо, по этой причине значительная доля исследований мягкой силы направлена на изучение различных национальных стратегий реализации «мягкой силы» – России (Шестопал, 2014), Китая (Young Nam Cho, Jong Ho Jeong, 2008), Южной Кореи (Жидков, 2014), Индии (Гуляр, 2014), Италии (Василенко, 2015) и др. Нельзя не упомянуть также попытки критического анализа исследуемого концепта (Емельянова, 2018).
Понятно, что изучение «мягкой силы» каждой страны имеет определенную важность и значение, но без видения общей картины, то есть знания мейнстрима и лидеров в этой «отрасли влияния», невозможно понять глобальные тренды. В связи с этом рано или поздно должны были возникнуть индексы, которые позволили бы говорить о мягкой силе на основе неких измерений. Таким инструментом является Глобальный индекс мягкой силы (Global Soft Power Index) от компании «Brand Finance». Данный ежегодный рейтинг, построенный на опросе 100 тыс. чел. из 120 стран по 8 ключевым блокам (бизнес и торговля, управление и дружелюбие, международные связи, культура и наследие, средства массовой коммуникации и система общения, люди и ценности, образование и наука, динамика ситуации с COVID-19), создает так называемую «двадцатку лидеров» использования «мягкой силы» в мире2. Примечательно, что Россия до начала специальной военной операции на Украине размещалась на 9 месте в рейтинге, но потом была вытеснена на 433.
|
Место в рейтинге |
Страна |
Место в рейтинге |
Страна |
|
1. |
США |
12. |
Южная Корея |
|
2. |
Великобритания |
13. |
Австралия |
|
3. |
Германия |
14 |
Швеция |
|
4. |
Китай |
15. |
ОАЭ |
|
5. |
Япония |
16. |
Нидерланды |
|
6. |
Франция |
17. |
Норвегия |
|
7. |
Канада |
18. |
Дания |
|
8. |
Швейцария |
19. |
Бельгия |
|
10. |
Италия |
20 |
Сингапур |
|
11. |
Испания |
Рисунок 1 – Глобальный индекс мягкой силы в 2022 г.
Figure 1 – Global Soft Power Index in 2022
Итак, в понятии «мягкая сила» коренным образом изменена репрезентация принципов и задач достижения геополитической цели в процессах международного нестабильного сотрудничества и перманентной глобальной конкуренции за ресурсы и влияние. Сегодня вопрос о возможности и условиях воздействия одной или нескольких стран на другие государства, культуры или цивилизации явно тяготеет к тому, чтобы предшествовать рассмотрению возможности соблюдения международного права или даже этики невмешательства в дела других стран. В качестве аксиомы современного общества в условиях глобализации, информационного взрыва, эры Интернета и надвигающейся четвертой промышленной революции признается, что лидирующие позиции на мировой арене в значительной степени могут быть определены тем, что еще Антонио Грамши назвал «культурно-идеологической гегемонией» (Грамши, 1980), и, само собой разумеется, научно-техническими и информационными возможностями страны задавать вектор движения как для своего соседа, партнера или конкурента, так и для глобального мира в целом. Когнитивный, культурный, информационный и технологический суверенитет большинства стран в условиях однополярного мира, сложившегося после крушения СССР, вызывает сегодня существенные сомнения (Макулин, 2023).
Глобализация с ее несомненной пользой по объединению человечества в единую коммуникационную систему, произведя революцию в сфере общения, принесла с собой множество подводных камней, вызывая защитные процессы и реакции в виде, например, глокализации (Дегтярев, 2020). Переход от так называемого «пустого» к «полному миру», задекларированный в «Докладе Римского клуба 2018» 1 , предвещает коренные изменения в способе освоения глобального мира. Если раньше человеческое сообщество расширялось, постоянно осваивало новые территории («пустой мир»), то теперь процесс освоения практически закончен («полный мир»), причем постоянно растущая экономика начинает покушаться на мировую экосистему, что выразится рано или поздно в ее истощении. В данном противоречии, согласно первому закону термодинамики, рано или поздно должно проявиться несоответствие растущей «бесконечно» экономики и вполне конечной планеты Земля. Выход из сложившейся ситуации теоретики видят в переходе к Индустрии 4.0. и «Новому просвещению», которые, как предполагается, будут минимизировать риски за счет разнообразных цифровых технологий (Интернет вещей, искусственный интеллект, роботизация, цифровые двойники и др.).
В таких условиях технологизируется практически все, следовательно, «мягкая сила» из «искусства убеждения» тоже превращается в особую социальную технологию – гуманитарную. А.А. Сазонова отмечает, что под ней следует понимать вид контакта, «основанный на “мягком” воздействии субъекта на ценностный пласт сознания объекта» (Сазонова, 2017: 127).
Современным условием, в котором с максимальной силой проявляются эффекты «мягкой силы», следует признать Интернет. Также необходимо отметить, что процессы цифровизации с точки зрения социальной эпистемологии знаменуются возникновением новых явлений, в частности, «умных толп», смартмобов (англ. smart mob – умная толпа) (Рейнгольд, 2006). Вслед за ними практически одновременно появились «умные города», «умные дома», «умные предприятия» и даже «умные университеты». В такой ситуации существенно изменяется природа управления человеческим социумом, информация становится важнейшим капиталом.
Идеальной признается ситуация, когда гипотетический оппонент сам делает то, что от него ожидают, после оказания на него управляемого информационного воздействия посредством «мягкой силы» (Наумов, 2016).
Нельзя не сказать и о недавнем прошлом, когда активное информационное взаимодействие, еще до эры Интернета, уже существовало и применялось странами с разной степенью эффективности и результативности. О силе информационных атак говорят, например, участники знаменитой холодной войны. Специалист по внешней политике США Майкл Ледин признался: «Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошли какие-то 8 лет! Мы просто взяли на зарплату диссидентов, и все. Случилась демократическая революция, и страна разрушилась. Если мы таким способом смогли сломить Советскую империю, поддерживая какую-то горстку людей, выступавших за реформы, а этих людей по пальцам пересчитать можно было, кто может сомневаться, что мы обрушим иранское правительство с таким же успехом!» 1 . Непобедимый извне военной силой СССР был уничтожен изнутри посредством системной информационной работы как с оппозицией, так и верхним эшелоном партийной номенклатуры, направленной на демонтаж советской идеологической системы. Такая работа является в некоем смысле предшественницей современных кибератак.
Примечательно, что именно Китай, обладавший схожими с советской системой чертами, учел ошибки СССР, создав специальные исследовательские организации, которые пытались выявить причины краха КПСС и найти противоядие для собственной партии 2 . Лидер КНР Си Цзиньпин призывал помнить о трагическом опыте СССР как о напоминании – так, в декабре 2012 г., когда он был избран генеральным секретарем на 18-м съезде Компартии Китая (КПК) он говорил: «Нам нельзя забывать опыт СССР» 3 .
Следует отметить, что сегодня насущной и информационно выпуклой стала борьба за формирование общественных и индивидуальных ценностей и моделей поведения, то есть борьба за умы не только интеллектуалов конкретной цивилизации и настроения широких слоёв населения, но и подрастающего поколения и даже детей. Ключевой предпосылкой для этого становится возможность «мягкого агрессора» быть на шаг впереди своей «жертвы», формировать сферу ее досуга и развлечений, источники получения информации, популярную культуру, экономику знаний, культуру образования («бум дистанционного образования»), то есть быть «умнее» во всех отношениях.
Нельзя не отметить усилия ряда стран, вовремя создавших для своих информационных пространств, культуры и собственного когнитивного суверенитета некие информационные «зонтики». Примером может служить проект «Золотой щит» – система фильтрации содержимого Интернета, действующая в КНР с 1998 г. (Сандакова, Бурзалова, 2012).
Конечно, следует сказать, что сама идея информационного воздействия не является чем-то принципиально новым. На уровне военной хитрости или политической манипуляции эффекты «мягкой силы» хорошо были задекларированы еще древнекитайскими философами. Так, Лао Цзы, живший в VII в. до н. э. говорил: «Вода – это самое мягкое и самое слабое существо в мире, но в преодолении твердого и крепкого она непоколебима... Слабые побеждают сильных, мягкое преодолевает твердое»4. Другой древнекитайский мыслитель Сунь Цзы в своем труде «Военный канон Ки-тая»5 ставил хитрость на первое место в процессе борьбы с противником, а истинным искусством войны считал победу, одержанную без прямого столкновения, с помощью совокупности 36 стратагем, названия которых говорят сами за себя: «Убить чужим ножом», «Поднять шум на востоке – напасть на западе», «Извлечь нечто из ничего», «Скрывать за улыбкой кинжал», «Тайно вытаскивать хворост из-под котла другого», «Объединиться с дальним врагом, чтобы побить ближнего», «Прикидываться безумным, сохраняя рассудок», «Заманить на крышу и убрать лестницу» и т.д.
Небезызвестен и знаменитый принцип «Разделяй и властвуй» (лат. divide et impera), помогавший Риму покорять и управлять огромными территориями. Трактат флорентийского мыслителя и государственного деятеля Никколо Макиавелли «Государь»1 содержит множество рекомендаций не только по управлению собственной страной, но и эффективному взаимодействию с союзниками и противниками.
Информационная обработка населения стран геополитических конкурентов проводится постоянно и даже иногда создает предпосылки для так называемых прокси-войн (англ. proxy war – опосредованная война, война по доверенности, война чужими руками) – конфликт между странами, ареной для которого выступает территория другой страны с разрешения последней под прикрытием устранения внутреннего конфликта в этой третьей стране. Прокси-война обычно предваряется серией мероприятий, среди которых: информационное расшатывание государствообразующих цивилизационных идеологем, закладывание основ для этнических и религиозных конфликтов, переписывание социальной и исторической памяти, идеологическая подготовка населения к свержению власти или утрате доверия к ней, уничтожение суверенитета государства путем финансирования «правильной» оппозиции, помощи в продвижении в органы власти кандидатур, потенциально готовых исполнять поручения, приходящие извне и работать в стране так называемым «вахтовым методом», пятой колонны, формируемой грантовой поддержкой; наводнение страны разноплановыми специалистами, отвечающими за разрушаемые или демонтируемые сектора экономики и социальные критически значимые институты для воспроизводства культуры (семья, образование, традиции), разложение аксиологического суверенитета и генетического кода народа псевдокультурной элитой, последующее втягивание государства в заведомо непогашаемые долги, превращение экономики в сырьевую колонию, а страны – в вечный сырьевой придаток. Технология очень детально описана Джоном Перкинсом в работе «Исповедь экономического убийцы» (Перкинс, 2007).
Примечательны также идеи другого американского исследователя – Джина Шарпа (Шарп, 2005), который в отличие от Джона Перкинса не стал «исповедоваться», и политологическая традиция вполне резонно называет его «Макиавелли ненасилия». Популярен Джин Шарп стал благодаря концепции «ненасильственного сопротивления», которую, как известно, разработал в свое время еще Махатма Ганди – идеолог движения за независимость Индии от Великобритании (Ганди, 2023). Понятно, что он не был единственным, кто придерживался подобной стратегии, о ней говорили многие великие гуманисты прошлого (Кинг, 1993; Толстой, 1956 и др.).
Но если М. Ганди ведет речь об освобождении собственной страны от захватчиков и колонизаторов, то в работах Дж. Шарпа справедливая идея освобождения от тирании или захватчиков согласно американской традиции «монетизируется», то есть незаметно превращается в технологию смены правящих режимов в любой точке планеты с таким расчетом, чтобы эти страны и их правительства были зависимы от США (Шарп, 2005).
Понятно, что параметр, которым должен обладать этот «неблагоприятный» режим – это геополитическое оппонирование интересам США, однако так как напрямую об этом не принято говорить, такой режим просто признается авторитарным и диктаторским, и этого обычно достаточно, чтобы организовать травлю государства на всех уровнях международных отношений, где у США есть влияние и контроль.
Если режим, выбранный в качестве цели для свержения, недостаточно слаб, то есть его нельзя просто уничтожить путем бомбардировок, а элиты страны вполне самостоятельны и их нельзя купить задешево, то в силу вступает технология «ненасильственного сопротивления». Идеи Джина Шарпа превратились в инструкции для организации «бархатных» и «цветных революций», которые, как мы знаем, привели мир к многочисленным войнам, крушениям экономик, попаданию стран в долговую зависимость и т.д. (Шарп, 2005).
Итак, «мягкая сила» сегодня – это сложный и многогранный процесс, порождающий множество вопросов: может ли современный мир выжить без ее применения; способна ли «мягкая сила» действительно быть «мягкой» и т. д. Возможность или моральное желание проявлять такую силу в современной геополитической ситуации, да и во всей политической истории человечества, – это вопрос дискуссионный. Если же и применять эту метафору, то, скорее, необходимо говорить о гибкости, которая всегда была преимуществом и позволяла избегать избыточной крепости, превращавшейся на практике в косность и невозможность быстро приспосабливаться к изменяющейся среде. Следовательно, в социально-политической реальности под «мягкой» необходимо понимать некую гибкую, умную силу (англ. smart power), то есть комбинацию «жёсткой» и «мягкой» силы, которая позволяет находить выигрышную стратегию.
Не последнюю роль в становлении рассматриваемого феномена именно во второй половине XX в. сыграли такие полярные явления, как, с одной стороны, возможность использования оружия массового уничтожения, аннигилирующего финальный результат глобальных военных усилий взаимным уничтожением противоборствующих сторон, а с другой – общество потребления, позволившее большинству прикоснуться к благам и услугам, которые были недоступны даже аристократическим кругам еще две сотни лет назад.
Таким образом, пока шел длительный исторический процесс, сопровождаемый сотнями войн, то есть проявлениями «жесткой силы», непрерывно возникал спрос на новые способы геополитического взаимодействия и взаимовлияния. И если реальные «горячие», да и «холодные», войны прошлого всегда заканчивались за счет истощения сторон, то информационные противостояния, судя по всему, только еще набирают обороты, развиваясь еще не по совсем понятным законам медиа-реальности. Ясно одно, что в мире сохраняется запрос на доминирование, правда, оно сейчас обусловлено необходимостью замещения классических «жестких» методов, «мягкими», которые по своей природе, как мы пытались показать в статье, являются продолжением «жестких», а в некоторых случаях являются даже более эффективными, так как позволяют без единого выстрела разрушать целые государства или погружать в долговые ямы их экономики.
Список литературы Философия мягкой силы в международном взаимодействии: между «парасиловым» принуждением и скрытным управлением
- Василенко Е.В. «Мягкая сила» современной Италии // Перспективы. Электронный журнал. 2015. № 4 (4). С. 33-45.
- Ганди М. Непротивление злу. История моей веры в силу человеческой души. М., 2023. 400 с.
- Грамши А. Избранные произведения. М., 1980. 422 с.
- Гуляр Д.Д. Мягкая сила Индии // Дискурс-Пи. 2014. № 2-3 (15-16). С. 178-181.
- Дегтярев А.Н. Глокализация - гибридная модель глобализации: институты и каузальность // Проблемы востоковедения. 2020. № 4 (90). С. 8-15. https://doi.org/10.24411/2223-0564-2020-10401.
- Емельянова Н.Н. «Мягкая сила» как концепт: критический анализ // Международная аналитика. 2018. № 3. C. 7-24.
- Жидков В.О. Элементы южнокорейской мягкой силы // Дискурс-Пи. 2014. № 2-3 (15-16). С. 172-177.
- Кинг М.Л. Паломничество к ненасилию // Ненасилие: философия, этика, политика. М., 1993. C. 168-181.
- Макулин А.В. Социальные «оси координат»: кривая «цены государственного успеха» и «объема спроса на свободу» и ее роль в интерпретации актуальных социально-философских проблем // Основы экономики, управления и права. 2023. № 2 (37). С. 36-50. https://doi.org/10.51608/23058641_2023_2_36.
- Наумов А. О. «Мягкая сила» и «умная сила». Внешнеполитический опыт США // Стратегия России. 2016. № 2. С. 65-76.
- Перкинс Дж. Исповедь экономического убийцы. М., 2007. 406 с.
- Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М., 2006. 416 с.
- Сазонова А.А. Гуманитарные технологии как теоретический концепт: основные подходы // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 3-1 (77). C. 126128.
- Сандакова Л.Г., Бурзалова А.А. Диалог культур запада и востока как основа целостного мировоззрения // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № S3. С. 3-8.
- Толстой Л.Н. Закон насилия и закон любви // Полное собрание сочинений в 90 т. М.: Художественная литература, 1956. Т. 64. С. 206-207.
- Шарп Дж. От диктатуры к демократии. Екатеринбург, 2005. 221 с.
- Шестопал А.В. «Мягкая сила» России в Евразии // Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 2 (35). С. 218-220.
- Young Nam Cho, Jong Ho Jeong. China's Soft Power: Discussions, Resources, and Prospects // Asian Survey. 2008. Vol. 48, iss. 3. P. 453-472. https://doi.org/10.1525/as.2008.48.3.453.
- Nye J.S. Soft Power // Foreign Policy. 1990. № 80. P. 153-171. https://doi.org/10.2307/1148580.
- Womack B. Dancing Alone: A Hard Look at Soft Power // The Asia-Pacific Journal: Japan Focus. 2005. Vol. 3, iss. 11. Р. 1-10. https://apjjf.org/site/make_pdf/1975 (дата обращения: 28.11.2023).