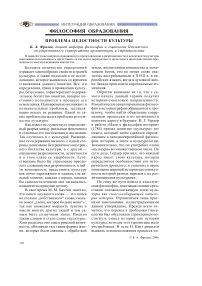Философия образования проблема целостности культуры
Автор: Фролов Б.А.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Философия образования
Статья в выпуске: 1 (42), 2006 года.
Бесплатный доступ
В данной статье вопреки сложившемуся представлению о разрозненности и аспектности культуры доказывается возможность представить ее как нечто неразъятное и целостное в пространственно-временном и смыслосозидающем контекстах.
Короткий адрес: https://sciup.org/147136107
IDR: 147136107
Текст научной статьи Философия образования проблема целостности культуры
Как известно, существует определенный разрыв между реальным феноменом и степенью его постижения и осознания. Так случилось и с культурой. Расширение ее содержания вызвало, с одной стороны, понимание безграничного внутреннего богатства культуры, а с другой — ощущение разрозненности, аспектности и в этом плане ее ущербности. Естественным было бы стремление преодолеть сложившуюся разрозненность и найти возможность представить культуру как нечто неразъятное и единое, где каждый момент, каждая сторона, какими бы самодостаточными они ни казались, имманентно присущи целому.
В свое время М. М. Бахтин заметил, что поиск «нужного слова — это поиск не столько „собственного44 слова, сколько поиск „слова, которое больше меня44»1, так как позволяет выразить чувства и мысли многих других людей и тем самым быть созвучным эпохе. Именно таким словом и стало слово «культура». Хотя родилось оно еще в римской античности, обозначая там такие формы жизни, которые были связаны с обработкой земли, воспитанием юношества и почитанием богов, тем не менее слово оказалось востребованным в XVIII в. в европейских языках, когда в духовной жизни Запада произошли кардинальные изменения.
Обратим внимание на то, что с самого начала данный термин получил историко-смысловую направленность. Романтически ориентированная философия и историография обращаются к прошлому, чтобы найти объяснение современным процессам и по возможности осветить дорогу в будущее. И. Г. Гердер в работе «Идеи к философии истории» (1784) придал понятию «культура» тот смысл, который затем сделался определяющим в западноевропейской философии, истории, а затем и культурологии. Знаменательно, что он употребил слово «культура» во множественном числе. По сути дела, Гердер признал, что каждый народ имеет свою культуру, которая определяется особенностями его исторического прошлого, и узаконил в науке понимание мировой истории как совокупности историй разных народов с их различающимися культурами.
По тому же пути пошла и классическая философия, доказывая своими средствами основополагающую идею культуры как смыслособирающей категории истории. Ограничимся лишь краткими замечаниями, иллюстрирующими данное утверждение. Прежде всего отметим, что переход к проблемам гносеологии был обусловлен стремлением постигнуть смысл истории как истории культуры, хотя сам этот термин еще мало употреблялся. И если И. Кант решился выявить основоположения процесса по
знания природы, общества и творчества, то Г. Ф. В. Гегель обстоятельно нарисовал картину мировой истории как продукт творческой активности мирового духа, который осознает себя свободой и осуществляет ее, что и выступает как определенные этапы мировой истории. Другими словами, Гегель превратил са-мопознающий мировой дух в смыслосозидающую доминанту мировой истории, что дало ему возможность представить духовную культуру как целостную систему, органически включающую в себя науку, мораль, нравственность, право, искусство, религию, философию, выступающие в качестве проявлений духа (превращенных форм самого же мирового духа) и воплощающие различные ступени его «созревания».
Хотя и Кант, и Гегель еще продолжали верить в силу разума и неумолимый ход «естественных законов», определяющих движение истории к «светлому будущему», тем не менее уже в XIX в. наметился иной, чем в классике, подход к действительности и постижению смысла культуры. В полной мере этот подход проявился в творчестве А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона, С. Кьеркегора и 3. Фрейда. Бунт против всеобъемлющей рациональности, поднятый последними, породил коренные сдвиги, которые обозначили обновленный лик европейской культуры: решительный поворот от умозрительности к чувственности, от объективизма к субъективизму, от метафизических высей к «тут-бытию», от четкой структурированности к свободной импровизации, от языковой сдержанности к метафоричности, от традиционной стилистики к изобретению авторских стилей, от поисков абсолютных истин к поискам человеческих смыслов, от верности внешним ландшафтам к интуитивной видимости «внутренних пейзажей» и т. п.
Выход за пределы классической парадигмы бытия открыл перед философией новое понимание пространства и времени, их специфические очертания и структуру, процессуальность и оформ-ленность, законы и принципы. Но самое главное, он дал возможность по-новому взглянуть и оценить человека, выявить те бытийные отношения, в которых он находится. «Эти бытийные отношения суть полнота мира»2. Следовательно, недостаточно понять человека, ограничиваясь только рамками искусства, где он действительно проявляет себя творческим «субъектом», который исходя из самого себя творит особый, собственный, мир «по законам красоты».
Признавая существующую реальность как иное бытия, можно ли одновременно признать, что эта реальность есть одновременно и инобытие человека, т. е. культура? Сформулируем вопрос иначе: совпадают ли друг с другом пространство культуры и реальное пространство или между ними существует «зазор», который означает, что имеется такая часть реального пространства, которая не «покрывается» культурой? Анализ литературы показывает, что такой «зазор» есть, им служит природа. Культура же в таком аспекте выступает как нечто противоположное природе, как искусственное в противовес естественности природы. Для иллюстрации приведем определение В. Ф. Оствальда: «То, что отличает человека от животных, мы называем культурой» («The modern theory of energeties»). Это значит, что природа существует в реальном пространстве рядом с культурой, выполняя роль «восприемницы» культуросозидающей деятельности человека. Подобная позиция по существу проявляется и в христианской (средневековой) философии (догмат о сотворении мира и человека Богом), и в философии Г. В. Ф. Гегеля, противопоставившего как бы застывшую в оцепенении природу творчески развивающемуся духу. Даже новейшая философия и культурология верны данной точке зрения. Так, В. Дильтей разводит «науки о духе» и «науки о природе», О. Шпенглер разделяет историю и природу, описывая последнюю и весь «ставший мир» в по- нятиях «причинность» и «пространство», а культурно-историческое бытие («становящуюся душу») — в терминах «время», «судьба», «жизнь». Наиболее резок в этом отношении марксизм, который не только противопоставляет «диалектику природы» и «материалистическое понимание истории», но и превращает культуру в идеологическую «надстройку» над экономическим «базисом»3.
Несмотря на такую длительную и прочную традицию, нам представляется, что отграничивать природу и культуру друг от друга неправомерно. И дело не только в том, что природа является «колыбелью» человечества, естественной «кладовой» для его предметной деятельности или неограниченным «пространством» (включая космос) для приложения творческой энергии человека (хотя это само по себе уже важный фактор, чтобы учитывать его при анализе культуры как смыслообразующей категории истории), ибо история совершается не столько в воображении ученых, сколько в «посюсторонней», предметной деятельности всего человеческого рода.
Вместе с тем, если рассуждать последовательно, то почему культура с полным правом может рассматриваться как иное бытия, а в отношении природы это считается неправомерным? В конце концов, и сам человек, хотя бы в его телесном, физиологическом, качестве тоже является иным бытия. Признавая, что бытие «породило» человека не только физико-биологическим, но и культуротворческим существом, логично было бы признать, что эта его способность также коренится в «недрах» того же бытия. Тогда само культуротворчество можно осмыслить как проявление бытия, или, другими словами, можно распространить культуротворчество и на область природы, которая, с одной стороны, сама по себе имеет творческий потенциал, а с другой — она есть инобытие человека, т. е. форма его же культуротворчества.
Таким образом, родство человеческой истории и природы несомненно и его можно проследить как «снизу вверх», так и «сверху вниз». Родство «снизу вверх» означает, что человеческая история явилась своеобразным «диалектическим» продолжением истории природы. В этом плане им должны быть присущи и похожие процессы: отсутствие строгой линейности, четкого следования заданным условиям, жесткой детерминации поведения больших групп индивидуумов, всевластия универсальных законов, телео-логичности результатов эволюционной динамики и др. Поэтому, хотя история человечества и отличается от истории природы, обе они составляют единство мира.
Стремление постичь полноту бытия во всей его всеобъемлемости присуще и русской философии серебряного века (В. С. Соловьев, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев и др.), которая «возводит» грандиозную целостность Всеединства, воплощающего в себе фундаментальные проблемы бытия мира и человека. В этом всеобъемлющем космическом процессе человек сам становится вселенским существом и его существование оказывается не затерянным бытием на фоне беспредельной Вселенной или частичным бытием, ограниченным земными масштабами, покорно повинующимся природной стихийности; ему уготована особая миссия — стать инициатором и движителем всемирного процесса воссоздания когда-то разъятой Божественной целостности (в том числе и разделенных трансцендентного, человеческого и земного миров) и придания этой целостности гуманистического смысла, так как сам он не только разумное, но и глубоко верующее существо, что делает его сверхрациональным бытием. Человек озабочен своим спасением и стремится к вечности, но для этого он должен вовлечь в этот процесс и всю Вселенную. Так, вечность как всецелост-ное бытие достигается лишь в результате осознания родства человека с природой, слияния с ней духовно и телесно и в этом качестве — исходного родства с Богом4.
Если Соловьев мыслит осуществление данного грандиозного проекта как свободное решение самого человека, становящегося таким образом Богоче-ловечеством, то Флоренский — как приобщение к Истине, являющейся в символическом одеянии, поскольку конкретное всегда есть единство (слитность) ноуменального (духовного) и внешнего (предметного)5; в свою очередь, Лосеву этот процесс представляется как воплощение священного эйдоса в непосредственной материальности, что в конечном счете является проблемой эстетической6.
Обращаясь к проблеме родства «сверху вниз», можно рассмотреть подход к природе как к естественной кладовой для культуротворческой деятельности человека, в результате которой формируется «очеловеченная» (или «вторая») природа, предстающая как мир культуры. Поскольку человек не может сразу и целиком включить всю природу (в том числе и весь космос) в свою преобразующую деятельность, постольку наряду с освоенной существует и неосвоенная, «девственная», природа, куда не ступала нога человека. Если данное утверждение приемлемо по отношению к непосредственно окружающей нас природе на планете Земля и околоземному пространству, то тем более оно воспринимается как само собой разумеющееся по отношению к космическим просторам. И вот эта-то «девственная» природа оказывается вне культуры, т. е. существует как «вещь-в-себе».
Конечно, можно согласиться с тем, что с течением времени человек будет углублять познание и преобразование природы, а значит, расширять культурное пространство. Действительно, процесс освоения мира бесконечен, но это не меняет сути дела: такое представление о культуре некорректно и ущербно. Мы склонны утверждать, что культура изначальна и всегда целостна и самодостаточна, и в каждый данный момент истории «сосуд знаний» человечества об окружающей действительности наполнен «до горлышка». Дело не в том, являются ли наши знания о природе научными или ненаучными, выражены ли они в рациональной или мифологической форме, имеют ли они позитивный или негативный смысл, а в том, что они всегда устраивали людей, живущих в любую эпоху и владеющих данными знаниями и умениями. Даже если знания имеют негативный подтекст как незнание чего-то или о чем-то, то вот это «что-то» и «о чем-то» уже есть знание того, что следует познать. Кроме того, такой аспект понимания знания и познания является значимым только в орбите рационального разума, которому в истории человечества принадлежит едва ли сотая часть по отношению к истории человечества в целом.
Вслед за В. С. Библером мы можем утверждать, что в XX в. понятие «культура» отделяется от идей образования и цивилизации и приобретает свой собственный смысл и свое собственное пространство. Она все больше смещается в центр, в средоточие человеческого бытия и пронизывает все решающие события жизни и сознания современного человека. «Тем самым феномен культуры именно в XX в. ... впервые может быть понят в действительной всеобщности, как основной предмет философского размышления»7.
Очерченный онтологический образ и статус культуры стали определяющими уже в прошлом столетии. Они доказывают, что культура только так и могла состояться — как совокупность широчайшего круга своих собственных феноменов. В этом плане она и должна быть определена «во всеобщей форме не как одно из проявлений нашего бытия или его ответвления, а как его единственный смысл и замысел» 8 . Осознание целостности культуры исходя из целостности ее бытия одновременно рассматривается как акт преодоления ее внутренних границ, как разносторонний диалог всех прошлых, настоящих и будущих культур.