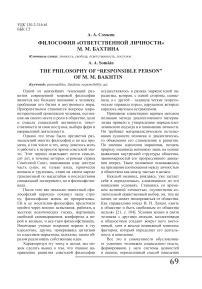Философия «ответственной личности» М. М. Бахтина
Автор: Сомкин Александр Алексеевич
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию социально-философских взглядов М. М. Бахтина на сущность личность, проблему ее свободы и ответственности, взаимосвязи и взаимодейст-вия с обществом. Анализируется концепция «ответственной личности» как альтернатива официальному партийно-классовому подходу в советской философии.
Личность, свобода, ответственность, поступок
Короткий адрес: https://sciup.org/14720740
IDR: 14720740 | УДК: 130.2:316.61
Текст научной статьи Философия «ответственной личности» М. М. Бахтина
Одной из важнейших тенденций развития современной мировой философии является все большее внимание к человеку, проблемам его бытия и внутреннего мира. Приоритетными становятся вопросы мировоззренческой ориентации человека, осознания им своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной активности, ответственности за свои поступки, выбора форм и направлений деятельности.
Однако эти темы были предметом размышлений многих философов и во все времена, в том числе и тех, кому довелось жить и работать в непростое время советской эпохи. Этот период охватывает почти семьдесят лет, в течение которых огромная страна Советский Союз, занимавшая одну шестую часть суши, не только жила, героически воевала и трудилась, ставя на своем народе грандиозный по масштабам и последствиям социальный эксперимент, но и философствовала.
После того как печально известный «философский пароход» покинул нашу страну, философская жизнь не прекратилась. Ей и ее носителям-философам предстояло пройти через многие испытания, работать в жестких политических тисках, жертвовать свободой самовыражения, комфортом, а порой и жизнью, и все-таки философствовать. Некоторые ученые искренне верили в эту идеологию, другие, прикрываясь цитатами из классиков марксизма, пытались таким образом реализовать собственные идеи.
Характеризуя эту эпоху в целом, мы можем сделать вывод о том, что главное направление развития советской философии осуществлялось в рамках марксистской парадигмы, которая, с одной стороны, сковывала, а с другой – задавала четкие теоретические «правила игры», нарушение которых каралось научным остракизмом.
Признание единственно верным методом познания метода диалектического материализма привело к утверждению марксистско-ленинского подхода и в понимании личности. Он требовал материалистического истолкования сущности человека и диалектического объяснения его становления и развития. По мнению идеологов марксизма, познать природу индивида возможно лишь на основе выявления внутренней структуры общества, закономерностей его прогрессивного движения вперед. Такое положение основывалось на признании соотношения между личностью и обществом как между частью и целым.
Каждый индивид, рождаясь, уже застает себя в определенных, сложившихся до его появления условиях. Становясь со временем активной личностью, осуществляя сознательный нравственный выбор, он, тем не менее, не может изолироваться от общества. Как справедливо писал В. И. Ленин, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» [21, с. 104]. Условия жизни и связи человека с другими людьми, коллективами и общностями создают вокруг него постоянный, хотя и весьма подвижный комплекс факторов, который определяет его деятельность и поведение.
Все это в совокупности обусловливает усвоение человеком социального опыта, формирование у него системы ценностей и оценок, определенный способ поведения в тех или иных ситуациях. Отсюда делается основополагающий вывод о сущности человека, которая «есть совокупность всех общественных отношений» [23, с. 3]. Так как человек «родится без зеркала в руках и не фихтеанским философом: “Я есмь я”, то человек сначала смотрится как в зеркало в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку» [24, с. 62]. Иными словами, сущность «“особой личности” составляет не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная физическая природа, а ее социальное качество…» [22, с. 242]. Поэтому личность в отечественной философии советского периода выступает как социальный облик каждого человека, выраженный в конкретной индивидуальной характеристике.
С большинством этих тезисов нельзя не согласиться. Однако преклонение перед общественными идеалами и нивелирование личных интересов и потребностей или ошибочное их понимание как вытекающих только из общественных на практике привело к печальным результатам. Многие качества советского человека при тоталитарном режиме, отрицающем самоценность отдельно взятой личности в угоду классовости и партийности, приобрели негативный оттенок.
Однако не все было так плохо, как это преподносилось нам в последние десятилетия. Многие идеи, получившие актуализацию в настоящее время, были поставлены еще в 1970–1980-х гг., хотя подходы к их решению страдали исторической ограниченностью. Так, например, разрабатывались: концепция гармоничного развития личности (Г. Е. Глезерман, Г. Л. Смирнов и др.), проблема индивидуальности (И. И. Резвиц-кий), диалектика свободы и ответственности (И. И. Логанов), вопросы комплексного исследования человека (И. Т. Фролов) и др.
После огульного критиканства 1990-х гг., когда советская философия признавалась сплошь антидемократичной и бесперспективной, современные авторы начинают обращаться к интегративному подходу, пытаясь разумно сочетать положительные моменты старых установок с нововведениями. Например, В. Я. Ельмеев [15–16] продолжает разрабатывать идеи, лежащие в русле воспроиз- водственной концепции развития общества и человека, основы которой были заложены еще К. Марксом.
Современную ориентацию отечественной философской науки можно условно назвать «гуманистический глобальный антропоцентризм». Он предполагает приоритетное внимание реальному человеку, а не классовости и партийности. В центр внимания вновь встали проблемы гармоничного развития свободной и ответственной личности, способной критически воспринимать реальную действительность и творчески преобразовывать ее.
В связи с вышесказанным большой интерес для современной гуманитарной науки представляют взгляды на проблему сущности личности всемирно известного русского философа и культуролога, филолога и литературоведа Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975).
М. М. Бахтин родился в купеческой семье Михаила Николаевича и Варвары Захаровны Бахтиных. Как и его старший брат Николай, он получил прекрасное образование. «Тяга к высокой образованности, к всесторонней культуре в доме Бахтиных поддерживалась прежде всего родителями, которые не жалели ни усилий, ни средств на образование и воспитание своих детей» [19, с. 37].
Позднее это позволило ему проявить себя во многих областях гуманитарного знания. В 1923 г. в Невеле и Витебске он сумел организовать вокруг себя способных молодых людей и устраивать жаркие дискуссии по различным вопросам. Впоследствии из «кружка Бахтина» вышли талантливые философы, музыканты, литературные критики (М. М. Каган, Л. В. Пумпянский и др.). Как и многие выдающиеся современники, М. М. Бахтин подвергся репрессиям и в 1929 г. был сослан в Кустанай. Однако во все периоды своей нелегкой жизни он продолжал вести исследовательскую работу. После войны заведовал в Саранске (Мордовия) кафедрой всеобщей литературы. Однако настоящая известность пришла только в 1960–1980-е гг., когда его работы стали широко публиковаться.
В соответствии с многовековой философской традицией первой категорией в системе Бахтина выступает понятие бытия.
По мировоззренческим взглядам М. М. Бахтин близко примыкал к Марбургской школе неокантианства. Основные принципы данного направления условно можно свести к трем моментам: 1) философия понималась исключительно как критика познания; 2) познание ограничивалось сферой опыта, а онтология была лишена статуса научной дисциплины; 3) признавалось существование априорных форм, обусловливающих познание. Русский философ разделял антиметафизический пафос системы.
Для основателя школы Германа Когена бытие, тождественное мысли о нем не есть реальность статичная, раз и навсегда данная. Она есть процесс, разрешаемая задача и заданность, не отделимая от человеческого познания и творчества. Только само мышление, полагал Г. Коген, может породить то, что может быть обозначено как бытие.
«Бытие для Бахтина – это сóбытие, чисто динамический момент жизни, причем бытие осмысленное и ответственное, т. е. поступок. Строя свою систему, Бахтин, как от краеугольного камня, от первой исходной реальности, отправляется от конкретного, неповторимого поступка. Однако если есть поступок, значит есть и поступающий» [8, с. 51]. Так, личность – в аспекте ее активности, свободы, творчества, внутреннего существования, в я-аспекте – становится второй ключевой категорией бахтинских воззрений.
Здесь он вводит понятие «автора» как активно-деятельностной личности. «Первая философия, нравственная философия, – пишет ученый, – не может быть построена в отвлечении от единственного действительного акта – поступка и автора его, – теоретически мыслящего, этически созерцающего (оценивающего. – А. С. ), этически поступающего» [Цит. по: 8, с. 51].
«Мысль об ответственности человека как автора, – утверждает в своей статье Е. Целма, – проходит через все работы Бахтина. Само понятие “автор” не сводится у него лишь к художественному творчеству. Каждый из нас, любой человек может быть автором мысли, чувства, произведения, поступка, наконец, всей своей жизни» [31, с. 159].
«М. Бахтин исходит из убеждения в том, что жизнь можно осознать и понять только как сóбытие, как “мой индивидуально- ответственный поступок”, как один из поступков, из которых “слагается вся моя единственная жизнь”» [19, с. 78–79]. «Только соотнося всю свою жизнь и каждый ее момент с нравственным сознанием, осуществляя выбор и претворяя его в “поступок”, человек доказывает свое “не-алиби в бытии”» [7, с. 55]. Здесь ярко выражен аксиологически-оценочный момент жизни человека.
«Выбор проявляется, прежде всего, как власть того, кто выбирает. Выбирая то или иное, я каждый раз опосредованно выбираю самого себя и строю свое Я через этот выбор» [26, с. 504]. Здесь и возникает вопрос о «правоте» человека, о разрешении им для себя той альтернативы, в которой выбор в одном случае может означать «истинно нравственную позицию», а в другом – «вину», пусть даже коллективно разделяемую со многими.
Таким образом, «реально свобода выбора означает личную ответственность человека за свои действия, даже если он совершает их в согласии со своим непосредственным окружением. Свобода в этом отношении выступает, по существу, как даже более мучительная для человека форма необходимости и внутреннего понуждения, – как вменяемое ему веление поступать вопреки самой легкой, “конформной” линии поведения» [14, с. 290].
Свободный поступок ни в коей мере не равнозначен поступку легкомысленному: свобода лишает человека удобной опоры в виде навязанных извне готовых решений, избавляющих его от мук борьбы с самим собой; она оставляет его один на один с собственным сознанием, отягощенным не разделенной ни с кем ответственностью за последствия его же поступков (то самое «не-алиби в бытии»), которые не скроет и не замаскирует никакой авторитет. Радость быть единоличным автором своих поступков неотделима от мучений, предшествующих их совершению: и то и другое в равной мере представляет собой элемент духовного развития человека [28, с. 225].
Первоначально понятие ответственности имело юридический смысл и было связано с такими терминами, как «вменяемость» и «вина». В конце XIX – начале ХХ в. оно постепенно обособляется и помимо философии права начинает применяться в социальной философии и этике. В настоящее время категория «ответственность» прочно вошла в понятийный аппарат философской науки, а ее реальное проявление стало неотъемлемой частью жизни современной личности.
Так, например, в «Этике чистой воли» Г. Коген наряду со свойственным его системе юридическим истолкованием понятия «ответственность» использует его и как этическую категорию при определении индивидуальной ответственности. Подобное же истолкование встречаем и у М. И. Кагана: «…героизм культуры требует от нас индивидуальной ответственности в нашей работе пред культурой и историей. Ответственность эта возможна в нашем скромном установлении себя в нужде» [Цит. по 20, с. 54]. Г. Зиммель полагает, что «…каждое актуальное долженствование оформлено и обусловлено всеми моментами пережитой до сих пор жизни. Уже в долженствовании… каждого отдельного поступка лежит ответственность за нашу историю» [Цит. по 20, с. 54].
Для М. М. Бахтина данное понятие имеет исключительно нравственный смысл. Основным положением его нравственной философии было утверждение, что «так называемая жизнь, понятая как действительное сóбытие (а не в качестве теоретизированно-го и эстетизированного “содержания”), есть действительная архитектонически упорядоченная нравственная реальность, в которой ориентируется и живет всякий “поступок”. В этом смысле “поступание”, “деяние”, “авторство” ни рационально “сознательно”, ни иррационально “бессознательно”; оно ответственно» [25, с. 128].
«Каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально-ответственный поступок из поступков, из которых слагается вся моя единственная жизнь как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок: я поступаю всею своею жизнью, каждый отдельный акт и переживание есть момент моей жизни-поступления», – писал М. М. Бахтин [Цит. по: 27, с. 38].
Для русского философа гарантом единства внутренних элементов, составляющих сущность личности, выступает ответственность. Именно ответственная личность признается основой взаимосвязи трех областей человеческой культуры (науки, искусства и жизни), в которой они обретают целостность и которая «приобщает их к своему единству» [3, с. 3].
Ж.-П. Сартр писал: «Я ответствен… за себя самого и за всех и создаю определенный образ человека, который выбираю; выбирая себя, я выбираю человека вообще» [29, с. 324]. Ведь каждый из нас в глубине души знает, что только он сам ответствен за свою судьбу, за свои удачи и неудачи даже в том случае, когда нам хочется списать свои промахи на кого-то другого или обстоятельства.
Подлинное бытие у Бахтина возникает лишь в момент «соотнесения истины (в себе значимой) с нашим действительным актом познания» [9, с. 219]. Далее, он говорит о том, что «ответственно действуя, я волей-неволей (случай неволи и есть отпадение в пассивность и одержимость) беру на себя обязательства, признаю свою ответственность за сказанное, даю поймать себя на слове, подписываюсь под совершенным поступком» [27, с. 102].
Столь по-бахтиновски бескомпромиссное понимание важности ответственности для существования человека мы находим и у К. Кастанеды. По его мнению, «принять на себя ответственность за решение – значит приготовиться из-за него умереть» [18, с. 44].
Эти слова созвучны с тем, что писал Н. А. Бердяев. По его словам, нельзя ответственность за страдания и зло возлагать на других, на внешние силы, на власть, на социальные неравенства, на те или иные классы: «ответственны мы сами, как свободные сыны; наша греховность и наше творческое бессилие порождают дурную власть и социальные несправедливости, и ничто не улучшается от одной внешней перемены власти и условий жизни» [5, с. 184]. Ибо невозможно переложить на плечи другого собственное решение. Это все равно будет твоим решением, за которое ты, а не другой, должен нести полную ответственность.
То есть утверждается активный характер ответственности. Идея активности субъективного бытия-становления неоднократно подчеркивается и самим М. М. Бахтиным: «То, что мною может быть совершено, никем и никогда совершено быть не может. Единственность наличного бытия – принудитель- но обязательна. Это факт моего не-алиби в бытии, лежащий в основе самого конкретного и единственного долженствования поступка, не узнается и не познается мною, а единственным образом признается и утверждается» [Цит. по: 9, с. 219].
Однако окружающий нас мир, по М. М. Бахтину, «“не есть бытие в его готовности”, он – диалогическое становление. “Сóбытие бытия”, или “поступок”, это – и физическое действие, и мысль, и чувство или слово. Они рождаются, возникают не в результате извне навязанного долга, а проходят через нравственное сознание индивида» [19, с. 79]. Таким образом, М. М. Бахтиным утверждается принцип диалогичности как основа формирования подлинно гуманной личности. Только в Другом человек способен обрести свое Я.
Ведь «личность» – системное «сверхчувственное» качество, возникающее вследствие вовлечения индивида в контекст общественных связей. Личность – индивид общественный, общающийся [17, с. 31]. Чтобы ею стать, необходимо вступать в диалог, общаться диалогически с другими людьми. Когда диалог кончается, то с ним кончается и общественное, кончается и Я личности [3, с. 434].
В этом смысле верно утверждение классиков советской эпохи о том, что личность есть совокупность общественных отношений. Лишь благодаря выполнению той или иной социальной роли человеком осуществляется усвоение общественного опыта и реализация своей собственной сущности. Личность поэтому представляет собой социальный статус, обусловленный занимаемым ею местом и выполняемой функцией.
Можно сказать, что место человека вообще «всегда открыто». Место же конкретного человека – «всегда занято». В том плане, что, реализуя себя в пространстве пересечений социальных последовательностей, оно оказывается опосредованным мышлением, трудом и языком [32, с. 357].
Однако, несмотря на признание важности индивидуального компонента в развитии личности, акцент в понимании советских философов делался на ведущей роли социального. Подчеркивалась важность общественных отношений в процессе становления личности в ущерб собственным нравственным исканиям, попыткам соотнести себя со всем социумом и целым Универсумом. Как весьма жестко отозвался по этому поводу С. Н. Булгаков, «личности погашаются в социальные категории, подобно тому, как личность солдата погашается полком или ротой» [10, с. 132].
В результате происходит нивелирование отдельного человеческого индивида, умаление его значимости в историческом процессе. Он встраивается в общественный механизм в ходе социализации не как самоценная личность, а как винтик, который может быть легко заменен. С этим положением и не мог примириться М. М. Бахтин. Ведь отказ от своей самости для него означал смерть при жизни.
«Каждый человек с рождения оказывается в пространстве “сплошь оговоренных” предметов, в “конципированном” “чужими словами”, доставшимися в наследство от предшествующих поколений, мире. В этом пространстве происходит и формирование индивидуального сознания человека – процесс “идеологического становления”. Другими словами, осуществляется процесс приобщения к культуре, освоение заданных культурно-исторических “матриц”, который одновременно является и “ответственным поступком”.
Приобщиться к культуре – значит вступить в диалог “социальных языков”, стать причастным к этому “оговоренному чужими словами” миру, т. е. вступить в отношение со всем, что уже было “сказано”. Вступить в диалог – значит не отказаться и от “своего слова” – своего взгляда на мир, своего мнения, своей позиции, что было бы равнозначно отказу от своей индивидуальности, от себя как личности» [7, с. 55].
Действительно, «все люди, составляющие общество, являются социальными существами, носителями социального качества и включены в систему общественных отношений. Однако одно дело быть включенным в систему общественных отношений, а другое – как сам человек в нее включается. Работник А относится к своей профессии как случайной повинности, для работника Б она источник радости и самоутверждения. Выполняя социальные функции, реализуя свои права и обязанности, каждый человек к ним еще и относится. Личность и есть способ включения данного человека в систему общественных отношений» [2, с. 196].
Интегрируясь в те или иные большие социальные общности, индивид интериоризи-рует выработанные ими ценности. Ценность определяется нами как то, что обладает положительной значимостью для человека. При этом каждое общество создает свою собственную иерархию ценностей, воспроизводимую в отдельных людях.
Для того чтобы проиллюстрировать этот факт приведем такой пример. В 80-х гг. прошлого века было проведено исследование, построенное на сравнении доминирующих ценностей – целей жизни советских инженеров и двух групп американцев (белых и черных). Были получены следующие результаты: у советских людей доминируют «ценности широкого человеческого общения»; у американцев (независимо от цвета кожи) – «индивидуалистическая направленность».
Бесспорно, приведенные данные обнаруживают не только социально-экономическое отличие образов жизни, но и своеобразие национальных характеров. Хорошо известны американский индивидуализм и наша склонность к самовыражению в личных отношениях. Однако представляются сомнительными столь резкие различия в иерархии ценностей и целей жизни. «Приведенные данные, – считает, например, Г. Г. Дилигенский, – отражают не столько реальные личные «жизненные позиции», сколько ценностный уровень массового сознания. В Штатах – это ценности индивидуальной свободы и индивидуального успеха. В советской системе – одна из высших официальных ценностей – труд на благо общества…» [13, с. 168].
Безусловно, эти представления не воспроизводятся буквально. В советском случае смысл труда сводился к формальному участию в процессе производства. Поэтому в нашем обществе труд был и во многом продолжает оставаться до сих пор малоэффективным, менее производительным и неконкурентоспособным. Высокая ценность труда как такового часто оборачивалась равнодушием к его результатам как для себя лично, так и для общества в целом. Все это, разумеется, имело свои корни в несовершен- ной экономической системе, в частности, – в уравниловке в оплате труда. Но нельзя не учитывать и особенностей психологического склада людей того времени.
Подобным же образом обстоит дело с ценностями «широкого человеческого общения». Помимо национальной специфики (соборность, общинность русского народа, на что указывали еще Н. А. Бердяев [5–6], Б. П. Вышеславцев [12] и др.), «в их высоком иерархическом статусе, по-видимому, сказывается потребность в психологической опоре на “других”, особо сильная у людей, не привыкших или отученных рассчитывать на собственные индивидуальные силы, на личную инициативу и энергию. В соответствии с официальной идеологией такую опору должно было обеспечивать человеку социалистическое общество с присущими ему “коллективизмом и гуманизмом”» [13, с. 169–170].
Однако устроение общества на коллективистских началах привело, по словам Н. А. Бердяева, к тому, что в «коммунизме на материалистической основе стало возможным подавление личности. Революционная коммунистическая мораль неизбежно оказывается беспощадной к живому конкретному человеку, к ближнему. Индивидуальный человек рассматривается, как кирпич, нужный для строительства коммунистического общества, он есть лишь средство» [5, с. 379].
Упразднив свободу совести, большевики объявили единственно верной философией материализм Маркса и Ленина, забыв, что «…власть единой истины, единой нравственной нормы в условиях земного “феноменального” бытия – есть, в каком-то смысле, подмена и кощунство» [4, с. 317].
Против этого и восстает М. М. Бахтин в своих произведениях. Для того чтобы преодолеть подобное отношение к человеку, философ обращается к понятию «участного мышления». «Участное мышление, – говорит он, – и есть эмоционально-волевое понимание бытия как сóбытия…». И в другом месте М. М. Бахтин продолжает: «Действительное поступающее мышление есть эмоционально-волевое мышление, интонирующее мышление, и эта интонация существенно проникает во все содержательные моменты мысли. Эмоционально-волевой тон обтекает все смысловое содержание мысли в поступке и относит его к единственному бытию – сóбытию» [Цит. по: 19, С. 79–80].
Мыслить «участно» невероятно трудно. Современный индивид уверен в себе, когда выступает как представитель безликого мира поп-культуры, но теряется там, где вынужден иметь дело с самим собой, со своим внутренним «Я». Однако рациональность выступает лишь в качестве момента ответственности. Так как человеку поступающему она дана как некая завершенная и целостная конкретность. Поступку всегда присущ эмоционально-волевой тон, который приобретается в процессе врастания его в ткань реальной жизни. Поэтому «участное мышление», по М. М. Бахтину, – это мышление единственного, конкретного, открытого событиям, ответственно поступающего человека.
Особенность взглядов М. М. Бахтина как философа состоит в том, что он отдает предпочтение субъекту ответственного поступка перед любой исторически конкретной системой социальных ценностей: «Нет определенных и в себе значимых нравственных норм, но есть нравственный субъект с определенной структурой (конечно не с психологической или физической), на которого и приходится положиться: он будет знать, что и когда окажется нравственно-должным, точнее говоря, вообще должным (ибо нет специальнонравственного долженствования)» [9, с. 218]. Отсюда Бахтин делает вполне логичное заключение, что все социальные нормы должны иметь значение лишь постольку, поскольку они утверждаются субъектом.
С этим положением соглашался и А. Адлер. Он писал: «…сегодня мы осознаем, что нет ничего неприкосновенного или твердо установленного относительно социальной жизни человека» [1, с. 38].
Эту мысль поддерживает и современный американский философ А. Дж. Баам. Для того чтобы избежать утверждения в обществе формализма и бюрократии, необходима более гибкая социальная система. Поэтому не нужно бояться упразднять закостеневшие государственные институты, препятствующие развитию социума и вводить другие, более эффективные [33, с. 37].
Однако ситуация, когда на каждого члена общества возлагается ответственность за все и перед всеми порождает всеобщую безответственность. В рамках тоталитарного государства в основе поступков людей лежит не свободно принимаемая на себя ответственность, а страх перед наказанием. «Я (сам) хочу» есть формула свободы [30, с. 378]. Но свобода возможна лишь в свободном гражданском обществе, где необходимым условием ее существования является ответственность. Не может быть свободы без ответственности за нее, как нет ответственности без свободного ее сознания.
В советскую эпоху «понятие свободы относится исключительно к коллективному, а не личному сознанию. Личность не имеет свободы по отношению к социальному коллективу, она не имеет личной совести и личного сознания. Для личности свобода заключается в исключительной ее приспособленности к коллективу. Но личность, приспособившаяся и слившаяся с коллективом, получает огромную свободу в отношении ко всему остальному миру» [5, с. 379]. Это ставит человека в над-мирное положение и разрушает его целостность.
Бахтин же говорит о диалогической природе самой человеческой жизни. По словам Т. Ю. Быстровой, такое понимание индивидуального бытия «предполагает диалогичное» отношение к миру как активному и равноправному с человеком началу как к такому же субъекту, каким является в этом отношении человек. Это «сóбытие бытия» нельзя описать в пределах эстетико-ценностной парадигмы. Из отношения человека к миру оно перерастает в отношение человека и мира, а бытие становится «надбытием» – раскрытым навстречу человеку миром [11, с. 53–54].
Поэтому, чтобы стать личностью, индивид должен выйти за границы собственного отдельного «Я» в свободное творческое пространство жизни и там созидать свою самость. А для этого необходимо признать ответственность за каждый момент своего бытия «здесь и сейчас». Конечно, «легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством» [3, с. 4]. Но такое существование невозможно и недопустимо для настоящей личности, ибо она «должна стать сплошь ответственной» [3, с. 3] и участной.
Однако личность не есть нечто раз и навсегда заданное. Она постоянно на- ходится в движении, изменяясь сама и изменяя окружающую среду. Поэтому с духовным ростом человека, полагает М. М. Бахтин, к нему приходит осознание ответственности не только за свои поступки, но и за других людей и весь универсум. М. М. Бахтин постоянно подчеркивает соотнесенность поступков личности с третьим субъектом, так называемым «нададресатом», воплощенным в идее Бога, абсолютной истины, Высшего разума и т. д. По признанию мыслителя, чтобы стать личностью, индивид должен выйти за границы собственного отдельного «Я» в свободное творческое пространство жизни и там сози- дать свою самость. Ибо «свободный человек тот, к кому взывает мир и кто отвечает на его зов; это – ответственный человек» [26, с. 504]. То есть предполагается выход личности на космический уровень ответственности с целью создания возможности интеграции человечества в «органическое» целое.
Таким образом, главным качеством личности, по М. М. Бахтину, является повышенная нравственная ответственность за свое существование в мире, связанная с «участ-ным мышлением» конкретного человека, переживающего каждый свой поступок как сó-бытие в непрерывном диалоге с другими личностями.
Список литературы Философия «ответственной личности» М. М. Бахтина
- Адлер А. Единство личности/А. Адлер//Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. -Ростов н/Д, 1998. С. 30-38
- Атттов Г. А. Проблемы методологии исследования общества как целостной системы/Г. А. Антипов, А. Н. Кочергин. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1988. 258 с
- Бахтин М. М. Искусство и ответственность/М. М. Бахтин//Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. -М., 1986. С. 3-4
- Бахтин Н. М. Философское наследие (публ. комм. О. Е. Осовскош)/Н. М. Бахтин//Бахтино-логия: Исследования, переводы, публикации. СПб., 1995. С. 315-357
- Бердяев Н. А. Философия свободы. Истоки и смысл русского коммунизма/Н. А. Бердяев. М.: СварогиК, 1997.-412 с
- Бердяев Н. А. Русская идея/Н. А. Бердяев//Византизм и славянство. Великий спор. -М., 2001. -С. 487-714
- Богатырева Е. А. Человек и проблема творчества в трудах М. М. Бахтина/Е. А. Богатырева//М. М. Бахтин и методология современного гуманитарного знания: тез. докл. участников Вторых саран. Бахтин, чтений/редкол.: А. И. Сухарев (отв. ред.) [и др.] Саранск, 1991. -С. 55-56
- Бонецкая Н. К. Философская антропология М. М. Бахтина/Н. К. Бонецкая//М. М. Бахтин и методология современного гуманитарного знания: тез. докл. участников Вторых саранских Бахтин, чтений/редкол.: А. И. Сухарев (отв. ред.) [и др.]. Саранск, 1991. С. 51-52
- Брейкин О. В. Философия поступка М. Бахтина и проблема Абсолюта/О. В. Брейкин//Бахти-нология: Исследования, переводы, публикации. СПб., 1995. С. 217-224
- Булгаков С. Н. Христианская социология/С. Н. Булгаков//Социс. -М., 1993. -№ 10. С. 120-149
- Быстрова Т. Ю. М. Бахтин и Э. Блох об отношении человека к миру: актуальность постановки проблемы/Т. Ю. Быстрова//М. М. Бахтин и методология современного гуманитарного знания: Тез. докл. участников Вторых саран. Бахтин, чтений/редкол.: А. И. Сухарев (отв. ред.) [и др.] -Саранск, 1991.-С. 52-54
- Вышеславцев Б. П. Русский национальный характер/Б. П. Вышеславцев//Вопр. философии. -М., 1995. -№ 6. С." 112-121
- Дилигенский Г. Г. Структура социально-политической психологии личности/Е Е Дилигенский//ДилигенскийЕ Е. Социально-политическая психология. -М., 1996. С. 149-208
- Дробницкий О. Г. Понятие морали/О. Е Дробницкий. М.: Наука, 1974. 388 с
- Елъмеев В. Я. Воспроизводство общества и человека/В. Я. Ельмеев. -М.: Мысль, 1988. -235 с
- Елъмеев В. Я. Социологический метод: теория, онтология, логика/В. Я. Ельмеев. СПб.: ТОО ТК Петрополис, 1995.144 с
- Ильин В. В. Социальное бытие/В. В. Ильин//Ильин В. В. Философия. М.: Академ, проект, 1999. С. 4-91
- Кастанеда К. Путешествие в Икстлан: пер. с англ./К. Кастанеда. М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 1991. -208 с
- Конкин С. С. Михаил Бахтин: (Страницы жизни и творчества)/С. С. Конкин, Л. С. Конкина. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1993. -400 с
- Лекции и выступления М. М. Бахтина 1924-1925 гг. в записях Л. В. Пумпянского//М. М. Бахтин: pro et contra. Личность и творчество М. М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли. СПб., 2001. С. 47-84
- Ленин В. II. Партийная организация и партийная литература/В. И. Ленин//Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 50 т. 5-е изд. -М., 1968. Т. 12. С. 99-105
- Маркс К. К критике гегелевской философии права/К. Маркс//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. -Изд. 2-е. -М., 1955. -Т. 1. -С. 219-368
- Маркс К. Тезисы о Фейербахе/К. Маркс//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. Изд. 2-е. -М., 1957.-Т. З.-С. 1-4
- Маркс К. Товар/К. Маркс//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 50 т. Изд. 2-е. М., 1960. -Т. 23. С. 43-93
- Махлин В. Л. Невельская школа. Круг Бахтина/В. Л. Махлин//М. М. Бахтин: pro et contra Личность и творчество М. М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной мысли. -СПб., 2001.-С. 122-135
- Мунье Э. Манифест персонализма: пер. с фр./Э. Мунье; вступ. ст. И. С. Вдовиной. М.: Республика, 1999.-559 с
- Пешков И. В. М. М. Бахтин: От философии поступка к риторике поступка/И. В. Пешков. М.: Лабиринт, 1996. 176 с
- Руджеро Г. де. Свобода и свободы/Г. де Руджеро//О свободе. Антология мировой либеральной мысли (I половина XX века)/Ин-т философии РАН; отв. ред. М. А. Абрамов. М., 2000. -С. 220-238
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм это гуманизм/Ж.-П. Сартр//Сартр Ж.-П. Сумерки богов. -М., 1989. С. 319-344
- Целма Е. М. Бахтин. Философия ответственности/Е. М. Целма//М. М. Бахтин и гуманитарное мышление на пороге XXI века: тез. докл. III Саран. Междунар. Бахтинских чтений: в 2 ч. -Саранск, 1995. Ч. 2. С. 158-160
- Шкуратов В. А. Историческая психология: пособие для доп. образования/В. А. Шкуратов. -2-е изд., перераб. М.: Смысл, 1997. 506 с
- BahmA. The Specialist. His Philosophy. His Disease. His Cure/A. Bahm. -NewMexico. Albuquerque: World books. 1977. 119 p