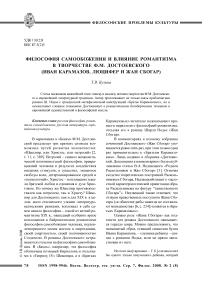Философия самообожения и влияние романтизма в творчестве Ф. М. Достоевского (Иван Карамазов, Люцифер и Жан Сбогар)
Автор: Бузина Татьяна Вячеславовна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философские проблемы культуры
Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена важнейшей теме: поиску и анализу истоков творчества Ф.М. Достоевского в европейской литературной традиции. Автор прослеживает не только связь проблематики романа Ш. Нодье с грандиозной метафизической конструкцией «Братье Карамазовых», но и осмысливает сложное отношение Достоевского к романтическим богоборческим течениям в европейской художественной и философской мысли.
Русская философия, романтизм, самообожение, русская литература, европейская культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14974261
IDR: 14974261 | УДК: 130.2:8
Текст научной статьи Философия самообожения и влияние романтизма в творчестве Ф. М. Достоевского (Иван Карамазов, Люцифер и Жан Сбогар)
В черновиках к «Бесам» Ф.М. Достоевский предлагает три кратких символа возможных путей развития человечества: «Шекспир, или Христос, или петролей» [2, т. 11, с. 369]. Петролей – символ механистической позитивистской философии, превращавшей человека в результат воздействия внешних стимулов, в существо, лишенное свободы воли, детерминированное средой и «психологией». Христос – воплощение идеала братской любви и единения в духе Христовом. Но почему же Шекспир противопоставлен как петролею, так и Христу? Шекспир для Достоевского, как и для XIX в. в целом, мало стесненного узкими литературоведческими рамками, воплощал в себе самое начало философии – одной из ветвей романтизма XIX в., нашедшей особенно яркое воплощение в байроническом романтизме философии самообожения человека, неудовлетворенного своим местом в мироздании, своей смертностью, своей подчиненностью Создателю. В романы Достоевского встраиваются отсылки на философию самообоже-ния. В «Бесах», например, эта философия обозначена позицией Кириллова и отсылками к «Генриху IV» Шекспира, а в «Братьях
Карамазовых» читателю подсказывают провести параллели с философией романтизма, отсылая его к роману Шарля Нодье «Жан Сбогар».
В комментариях к полному собранию сочинений Достоевского «Жан Сбогар» упоминается ровно пять раз, при этом только один раз применительно к «Братьям Карамазовым». Лишь недавно в сборнике «Достоевский. Дополнения к комментарию» была опубликована статья В.А. Недзвецкого «Родион Раскольников и Жан Сбогар» [5]. Отмечая сходство теоретических построений Раскольникова и Сбогара, Недзвецкий пишет о «целостной характерологической ориентации образа Раскольникова на фигуру “таинственного Сбогара”». Недзвецкий также отмечает, что отзвуки нравственных постулатов Жана Сбо-гара («в обществе рабы никогда не составляют меньшинства» [6, с. 234]) появятся в «Братьях Карамазовых».
Однако роль «Жана Сбогара» как подтекста для романа Достоевского оказывается гораздо шире. Можно предположить, что знаменитый образ, ставший символом бунта Ивана Карамазова, – слезинка ребенка – связан с романом Нодье, если не прямо заимствован из него.
Не стоит она [гармония. – Т. Б.] слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «Боженьке»! [2, т. 14, с. 223–224].
У Нодье, в записной книжке его героя, читаем:
Когда нации вступают в свой последний период, их объединяет один клич: все принадлежит всем! И в тот день, когда знамя, на котором начертан этот девиз, будет смочено слезами ребенка, я сорву его с древка и сделаю себе из него саван [6, с. 235].
Слова Ивана прежде всего отсылают читателя к ключевой для романтизма Книге Иова и к «Потерянному раю» Джона Мильтона. В словах Ивана присутствует редкая для устремленной в эсхатологию литературы XIX в. космогоническая картина. В возмущенном монологе Иова и ответном монологе Бога в Книге Иова поднималась одна и та же проблема – несоразмеримость твари и Творца и невозможность для твари упрекать Творца, потому что она неспособна на столь же грандиозное творчество (см.: 9; 2– 18 и 38; 1–2, 4–13). В вопросе Ивана, словно в ответ на этот разговор Иова и Бога, человек приравнивается к Создателю, и ему дается шанс «в финале осчастливить людей». Богоравность человека в этом гипотетическом вопросе, поставленном перед Алешей, уже сама по себе отсылает к романтической и проторомантической традиции. Человек оказывается творцом мира, подобно тому, как Творец в начале времен создал наш мир 1. Одновременно, требуя искупления детских слез, но допуская страдания «больших», съевших яблоко, Иван – сознательно или бессознательно – повторяет текст Мильтона из третьей песни «Потерянного рая» и в том числе слова самого Господа, требующего искупить грех человека 2. Сознательно или бессознательно, но, отказываясь от божественной гармонии, Иван примеряет на себя обличительные речи самого Господа Бога, подобно Ему, требуя справедливости. Однако теперь человек обращает требование справедливости к Творцу. Иван – одновременно обличитель и обличаемый. Иван словно бы забывает, что именно за претензию на самообожение и карал Господь человека 3. У Мильтона ответом Богу становится молчание Эмпирея, не желающего искупать гре- хи людей 4. Аллюзии на Мильтона снова и снова активизируют в сознании читателей тему отказа людям в милосердии искупления и солидарности Ивана с такой жестокой позицией. Суровости Эмпирея у Мильтона противопоставляется согласие Сына Божия вочеловечиться и искупить Своей смертью грех прародителей. Христос отвечает на требование справедливости призывом к милости и предлагает Себя в жертву во имя искупления человечества. Это та жертва, которая не дает покоя Ивану. В этой жертве – главный камень преткновения на пути его бунта, потому что невинное существо добровольно принимает страдания во имя искупления. Алеша отказывается стать архитектором здания, основанного на страданиях замученного ребенка, и его отказ играет двойную роль. С одной стороны, Алеша мудро отказывается от роли Бога-Творца, а с другой – он, отвечая на вопрос Ивана, как бы отказывается принять мир, уже основанный на добровольной жертве Христа. Алеша понимает, что он подпал под соблазн слов Ивана, поддался на искушение, и неслучайно именно затем Алеше необходимо утвердить свою веру в Христа, без которой все бессмысленно, и он заговаривает с Иваном о Христе, тем самым подводя брата к «Великому инквизи-тору»5. Мильтоновский подтекст встраивает «Братьев Карамазовых» в прото-романтическую литературную традицию и в богоборческую традицию европейской литературы. Аллюзия на Мильтона важна именно тем, что выводит тему богоборческого бунта за пределы романтизма байронического толка и делает ее одной из основополагающих тем в культуре Нового времени вообще.
Аллюзия на Нодье, с одной стороны, напоминает о собственно романтической традиции, поскольку роман есть превосходное воплощение романтического европейского духа, а с другой стороны, «Жан Сбогар» как подтекст романа Достоевского на мифопоэтическом уровне продолжает направлять читателя на пути осмысления позиции Ивана vis-á-vis отношений человека с Богом и мирозданием. С помощью подтекста из Нодье время создания гармонии переносится из начала творения в конец времен, в «последний период жизни нации». То есть начало нового мира оказыва- ется на самом деле его концом. Иван предлагает Алеше строить мир в конце времени, то есть по сути он предлагает, говоря словами Степана Трофимовича Верховенского, «с песней новой надежды» [2, т. 10, с. 10] достроить Вавилонскую башню. Вместо царства Христа Иван предлагает Алеше строить царство антихриста. Неслучайно жанр прозаического произведения Ивана («поэма») совпадает с жанром прозаического же произведения Степана Трофимовича: обе они посвящены богоборческому желанию утвердить новый мир «с новым проникновением вещей» [2, т. 10, с. 10]. Доводя богоборческий дух европейской культуры до его кульминации в романтической философии, Достоевский напоминает читателям о том, что новое проникновение вещей оказывается совершенно старым проникновением вещей, приводящим к тому же, против чего и бунтует Иван: к страданиям людей и к страданиям детей. Роман Нодье возвращает читателя к идее бесплодности романтического бунта, пронизывающей всю европейскую романтическую традицию, и, более того, вводит в «Братьев Карамазовых» тему контрпродуктивности бунта романтика. Бунтуя против страдания, романтик порождает новые, еще более горькие страдания для тех людей, которых он хотел бы облагодетельствовать.
В «Жане Сбогаре» примечательно то, что его форма в значительной степени соответствует тому, что Пушкин в «Евгении Онегине» назвал «безнадежным эгоизмом» (глава III, строфа XII) романтического героя. Роман подчинен одной художественной задаче – изображению Жана Сбогара, а окружающие Сбогара сюжет и персонажи – не более чем необходимый Нодье реквизит, с которым он обращается не слишком осторожно. Даже любовный сюжет необходим прежде всего для утверждения саморазрушительной природы романтического бунта и его основного противоречия – исходя из благородных побуждений, романтический герой губит не только себя, но и невинных людей, которым хотел бы принести счастье.
Аналогичная ситуация складывается и в мистерии Байрона «Каин», которая вместе с «Манфредом» становится для Достоевского едва ли не символом байронического романтизма. «Каин» посвящен началу пути бай- ронического героя, и центральным событием мистерии оказывается убийство Авеля, жестокая ирония бунта Каина: бунтуя против смерти, желая спасти себя и тех, кто ему дорог, от смерти, восставая против Бога, который обрек их всех на таинственную и страшную смерть, Каин оказывается именно тем, кто принес смерть в мир.
Однако в отличие от поэм и драм Байрона роман Нодье прозрачен даже до некоторой наивности, что и делает «Жана Сбогара» особенно ценным интертекстом 6 «Братьев Карамазовых». В сопоставлении с «Жаном Сбо-гаром» роман Достоевского становится и сам немного прозрачнее для восприятия. С другой стороны, «Жан Сбогар» точно воплотил в себе дух романтизма. В этой связи примечательно следующее обстоятельство: роман Нодье был написан в 1812 г., а издан только в 1818 году. За прошедшие между его написанием шесть лет французская публика успела познакомиться с «восточными поэмами» Байрона, и роман Нодье объявили подражанием «Корсару», хотя «Корсар» был написан годом, а издан двумя годами позже «Жана Сбогара» [1, с. 4]. Однако такая близость двух авторов ценна как свидетельство того, что в их произведениях, написанных совершенно независимо друг от друга, отразился романтический Zeitgeist, с которым Достоевский находится в сложных и противоречивых отношениях.
К тому моменту, как Достоевский вошел в литературу, романтизм как литературное течение кончился, но философские категории и мировидение, сформировавшие основу романтического мышления, оставались важной движущей силой европейской культуры и мысли. Такая основополагающая категория, как романтический бунт, охватывающий собой все аспекты существования человека, от социального до метафизического, появляется еще в «Трагической истории доктора Фауста» Кристофера Марло и в творчестве Шекспира, и их, как уже упоминалось, можно возвести к Книге Иова. Корень неоднозначности отношений Достоевского с романтизмом в том, что романтический бунт возникает или воспринимается романтическим героем как результат напряженного переживания несовершенства мироздания, а болезненно-личное переживание несовершенства мира, может, как у Иова, быть результатом любви к Богу: «Ошеломление и ярость Иова не были бы столь пылкими, если бы он воистину не любил Господа» [11, р. xvii]. Бунт провоцирует Богоявление и, таким образом, способствует разрешению сомнений в мироздании и Божестве. Как писал Семен Франк, возможно, что духовное просветление и «обретение даров благодати» было для Достоевского невозможно без опыта греха и зла [9, с. 202].
Таким образом, саморазрушительная и сама себя опровергающая позиция романтического героя одновременно оказывается необходимой для обретения подлинного опыта Бога.
С помощью отсылок к Нодье Достоевский подчеркивает романтические корни бунта Ивана, а также сугубо романтический характер трагедии своего героя. Параллель с философскими размышлениями Но-дье еще раз подчеркивает идейную важность романтизма для движения художественной мысли Достоевского и неоднозначность роли романтической идеологии в его творчестве, а также еще раз заставляет читателей осознать важность идеологии романтизма в европейской культуре и ее всепроникающий характер.
Список литературы Философия самообожения и влияние романтизма в творчестве Ф. М. Достоевского (Иван Карамазов, Люцифер и Жан Сбогар)
- Андрес, А. Л. Шарль Нодье/А. Л. Андрес//Ш. Нодье. Избранные произведения. М.; Л., 1960. 562 с.
- Достоевский, Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т./Ф. М. Достоевский. Л., 1972-1990.
- Меерсон, О. Четвертый брат или козел отпущения ex machina/О. Меерсон//Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Современное состояние изучения/ред. Т. А. Касаткина. М.: Наука, 2007. С. 565-604.
- Мильтон, Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец/Дж. Мильтон. М., 1976. 573 с.
- Недзвецкий, В. А. Родион Раскольников и Жан Сбогар/В. А. Недзвецкий//Достоевский. Дополнения к комментариям/под ред. Т. А. Касаткиной. М.: Наука, 2005. С. 351-356.
- Нодье, Ш. Избранные произведения/Ш. Нодье. М.,; Л., 1960. 562 с.
- Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Современное состояние изучения/ред. Т.А.Касаткина. М.: Наука, 2007. 835 с.
- Сараскина, Л. И. Метафизика противостояния в «Братьях Карамазовых»/Л. И. Сараскина//Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Современное состояние изучения/ред. Т.А. Касаткина. М.: Наука, 2007. С. 523-564.
- Франк, С. Л. О гуманизме Достоевского//Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. 427 с.
- Martinsen, D. Surprised by Shame/D. Martinsen. Dresden, 2003. 273 р.
- The Book of Job/The Translated and with an Introduction by Stephen Mitchell. San Francisco: North Point Press, 1987. 129 р.