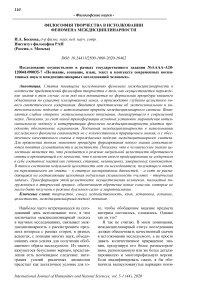Философия творчества в истолковании феномена междисциплинарности
Автор: Бескова И.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 5-1 (44), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию феномена междисциплинарности в контексте представлений философии творчества о том, как осуществляется порождение знания в том случае, если под ним понимается не формальная процедура внешнего объединения по существу изолированных начал, а производство глубинно целостного нового синтетического содержания. Вводится представление об экстенсиональном и интенсиональном подходах к истолкованию природы междисциплинарного синтеза. Выявляются слабые стороны экстенсионального понимания, доминирующего в современной науке. Показано, за счет какой трансформации исходных установок мировидения интенсиональному подходу в интерпретации феномена междисциплинарности удается преодолеть обозначенные ограничения. Подлинная междисциплинарность в истолковании исследуемого феномена связывается не с количественным приращением знания, а с обеспечением качественного скачка в порождаемых моделях междисциплинарного синтеза. Для прояснения тонких моментов процедуры формирования нового знания сопоставляются понятия суммативности и целостности. Показано, что в человеческом знании целостным является то, что рождается в режиме недуальной целостности обретаемого опыта и проживающей его личности, что в момент своего продуцирования не содержало в себе составных частей как готовых, ставших, независимых, завершенных компонентов. В таком состоянии недуальной целостности нет ни исследователя, получающего опыт, ни переживаемого им опыта, - в статусе изолированных данностей, - а есть не распадающаяся на составляющие целостная недуальная сплавленность «человек - творческая задача». Трансформация этой целостности, осуществляемая человеком, полностью погруженным в творческий процесс, обеспечивает обретение новых смыслов, которые не могли быть получены в режиме дуального само- и миропонимания.
Творчество, смысл, недвойственность, язык, установка, сознание, целостность, междисциплинарный подход, познание
Короткий адрес: https://sciup.org/170190787
IDR: 170190787 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10462
Текст научной статьи Философия творчества в истолковании феномена междисциплинарности
Наиболее часто встречающееся на сегодняшний день истолкование того, в чем заключается междисциплинарный подход в научных исследованиях, связывает междисциплинарность с рассмотрением предмета интереса с разных сторон, в разных аспектах, с позиции многих наук, объединивших свои усилия для получения обобщенного образа исследуемого. Из такого, кажущегося безусловно верным, представления есть неочевидное следствие: интеграция усилий различных дисциплин предстает как достаточное условие для то- го, чтобы обобщенное видение предмета интереса состоялось, сложилось. Однако так ли это?
Я так не считаю. В моем понимании, междисциплинарный статус исследования должен обеспечивать качественный скачок в истолковании исследуемого, а не просто давать количественное приращение знания, продуцируя его более разностороннюю, разноплановую или же более детализированную и многопрофильную версии. Если квалифицировать сжато, я бы обозначила вышеупомянутые вариации пони- мания как экстенсиональный и интенсиональный подходы к истолкованию феномена междисциплинарности. Экстенсиональный подход, по сути, делает ставку на максимальное увеличение количественных показателей знания, обеспечиваемое за счет объединения усилий разных отраслей науки, поэтому концентрируется на выработке объединяющих стратегий в организации научного поиска. Это, в частности, идеи разработать общий научный язык, пользуясь которым и формулируя свои результаты на котором, ученые из разных областей знания могли бы лучше понимать друг друга [1]. В этом же русле лежат идеи разработки общенаучных методов, помогающих ученым унифицировать свои подходы, соотносить ракурсы рассмотрения [2]. Я считаю такие устремления в методологии науки, хотя и позитивно окрашенными, но в значительной мере утопичными, поскольку полагаю, что всё, привнесенное в науку извне, имеющее исток своего зарождения вне самой развивающейся системы знания, так и сохранит статус внешнего и навязанного по отношению к процессам его самоорганизации. Например, существует искусственно созданный язык эсперанто, однако широко ли он используется как средство межнационального общения (каким и был задуман)? Можно создать еще один искусственный язык, так сказать, «междисциплинарного общения», но насколько востребован он будет?
Интенсиональный подход в истолковании природы междисциплинарности я связываю с формированием предпосылок для достижения качественного скачка в истолковании предмета интереса. При этом имеющиеся в разных науках аспекты знания не просто суммируются, соединяясь между собой механическим путем, но претерпевают алхимическое превращение, принося новое качество видения исследуемого: целостность порождаемого образа. Качественный скачок в истолковании интересующего позволяет от множества частных и частичных картин-реконструкций перейти не к мультиобразу изучаемого, рисующему «многоли-кость феномена», а сформировать альтер- нативную имеющимся, инновационную модель предмета интереса, отображающую не просто иное, но, прежде всего, целостное, видение. В соответствии с моим пониманием, междисциплинарность - это не более детализированная, точнее прописанная, лучше отстроенная и просчитанная картина, как вариация понимания, уже имеющегося в какой-либо из частных наук или в некой их совокупности. Это порождение модели изучаемого, альтернативной по отношению к уже существующим образам-интерпретациям.
Но почему это должна быть новая картина, почему она должна отличаться от имеющихся частных образов-реконструкций, чтобы оправдать статус междисциплинарного синтеза? Ведь если частные модели дают верную картину в рамках собственных подходов, правильно ли будет ориентироваться на то, что синтетический образ окажется от них отличающимся? Если частные образы верны, то почему ожидаемая синтетическая реконструкция, обеспечиваемая междисциплинарным видением, не может быть просто их детализацией или - наоборот - их расширением? Почему синтетическая картина предполагает создание своего, специфического образа исследуемого предмета? В чем смысл такой инновационности? Не будет ли она вступать в конфликт с уже существующими частными моделями, опровергаться ими?
Рассмотрим некоторые из очерченных тем на примере исследований человека.
Феномен человека в интенсиональной версии междисциплинарного подхода
На первый взгляд кажется довольно логичным следующее рассуждение: поскольку частные науки проистекают из разных ракурсов рассмотрения исходно целостного феномена (каким человек и является), то объединение их усилий способно породить именно ту целостность, которая была утрачена при распадении единого поля восприятия на множество подвидов. Однако является ли процедура «собирания камней» обратной по отношению к их «разбрасыванию» (имеется в виду «Время разбрасывать камни и время собирать камни» [3]), а операция совмещения подходов, существующих в рамках изучающих человека дисциплин, обратной по отношению к исходному дроблению изначальной целостности?
В сказке царь, решив жениться на прекрасной царевне, требует от трех своих сыновей, чтобы они отправились в путешествие и добыли ему сначала молодиль-ные яблочки, съев которые он снова обретет молодость, а затем и прекрасную царевну. Сделать это удается только младшему сыну Ивану, но завистливые братья убивают его, дары присваивают, а для верности, чтобы царевич не воскрес, еще и разрубают мертвое тело на части. Однако серый волк приходит на помощь, отправляет ворона за живой и мертвой водой, а когда тот возвращается, сначала спрыскивает куски мертвой водой, - и тело срастается, а потом живой, - и герой возвращается к жизни.
В работе «Исторические корни волшебной сказки» В.Я. Пропп анализирует глубинные интенции этой культурной схемы, отмечая ее распространенность: «Одной из форм временной смерти было вскрытие человека или разрубание его на куски... Мотив разрубания и оживления очень популярен в сказке» [4]. Он так же обращает внимание на, если так можно выразиться, двухэтапность процесса: чтобы вернуть разрубленного героя к жизни, требуется сначала сбрызнуть его мертвой водой, чтобы тело срослось, стало «как живое», однако же, оставаясь при этом мертвым. И лишь потом сбрызнуть живой водой, чтобы герой ожил.
Так вот, если посмотреть под углом зрения этого мотива на тему восстановления целостности видения в изучении человека, то, как мне кажется, можно провести следующие параллели. Имеющееся положение вещей, когда существует множество дисциплин, анализирующих природу человека, напоминает мне существование различных частей тела разрубленного на куски Ивана-царевича. Их соединение в общем усилии оживить убитого героя напоминает собирание кусков мертвого тела в попытке воссоздать изначальный образ утраченного единства. А сбрызгивание результата таких усилий мертвой водой наводит на мысль об искусственной, извне инициированной объединенности. В результате тело становится как живое, однако же оставаясь при этом мертвым. Вот именно такой вариант синтеза, как представляется, обеспечивает экстенсиональный подход к истолкованию феномена междисциплинарности. И если продолжить аналогию, то можно обнаружить следующее: чтобы тело, которое хотя и выглядит как живое, и срослось, как будто никакого разрубания не было, все-таки вновь стало Иваном-царевичем, требуется сбрызнуть его живой водой. В противном случае оно так и останется безжизненным. На мой взгляд, интенсиональный подход -это и есть то, что предполагает сбрызгивание продукта соединенных усилий различных дисциплин, все еще остающегося безжизненным внешним объединением прежде разрозненного, живой водой подлинного синтеза. «О-жив-ляющее воздействие подобной динамики я усматриваю в том, что внешне сформированная объединен-ность должна смениться изнутри идущей интенцией самотрансформации сумматив- ности в целостность. Но что играет роль «живой воды», способной превратить внешнюю суммативность во внутреннюю целостность живого синтеза в так истолкованном процессе интеграции знания?
Логика интегрирующего синтеза в междисциплинарном подходе
В рамках экстенсионального видения междисциплинарности предполагается, что выявление связей между науками способствует их объединению в более широкие концептуальные структуры. Это утверждение выглядит бесспорным, но раскрывает ли оно глубинную подоплеку процессов интегрирующего синтеза? Чтобы попытаться это понять, зададимся вопросом, почему выявление связей может способствовать объединению знания в более широкие концептуальные структуры? Если что-то связывает между собой два разных способа смотреть на мир, то это говорит о том, что между данными формами видения существует некое созвучие, со-глас-ованность. Что это за феномен и как формируется?
Для того, чтобы возникло такого рода созвучие, согласованность, наметились связи между разными научными подходами, нужно чтобы нашелся человек, который обнаружил, что между данными результатами, методами, схемами видения существует синхрония, параллелизм, перекличка. Но как человек это устанавливает, как находит, как раскрывает? Если, занимаясь некой проблемой, и анализируя пути ее решения, он обнаруживает, что в другой науке та же задача, допустим, уже решена; или в другой науке есть инструмент для ее решения; или другая дисциплина говорит об этом же, но с использованием иного категориального аппарата. И тогда он стремится найти и обозначить то общее, что есть между этими темами, что позволит экстраполировать данные из одной сферы знания на проблемную область другой. Но отыскивая такое общее, обозначая его, исследуя это единое, существующее и здесь, и там, он сам становится этим объединяющим их началом. Он сам превращается в то общее, что объединяет эти видения, подходы, усмотрения. Став таким синтетическим продуктом, он уже может поро- дить новое синтетическое знание, потому что новое может родиться только от нового. Пока человек стар, а его схемы само- и миропонимания сохраняют свою неизменность, ничего принципиально нового он не произведет на свет.
Если подлинная динамика налаживания связей, контактов между сходно «прозвучавшими» темами в разных науках именно такова, то как следует оценить ранее упомянутое суждение о том, что исток интегративности надлежит искать во взаимных связях, элементах общего между различным? Так ли это? И да, и нет. Да, – потому что это констатация очевидного положения вещей: связи есть, на основе связей формируется общность видения. С этим не поспоришь. Но если всмотреться пристальнее, то можно увидеть что синтез различных аспектов видения осуществляется не где-то в абстрактной пустоте общенаучных динамик, и не в сфере внешнего регулирования тенденций развития науки, а внутри, в глубине самой системы знания. А именно, в человеке, как центральном ядре трансформационных процессов порождения, развития и преобразования знания. Он – и есть то общее, что возникает между разными науками в качестве начального синтетического звена, ядра, семени будущего процесса интеграции. И уже после того, как такое синтетическое новое – человек, объединивший собою и в себе то, что до этого существовало разрозненно, возникает, рождается, лишь вслед за этим начинает формироваться область знания, в которой прежде не существовавшие взаимосвязанно, переплетенно, сферы объединяются не как сумматив-ность, но как целостность.
Таким образом, в теме междисциплинарности обнаруживается мотив живой целостности vs суммативности, как подлинного живого синтеза vs иллюзорной внешней объединенности сросшегося, но не ожившего организма. Импульсом и началом живого синтеза выступает человек, в котором прежде изолированное знание обрело сплавленность после пережитого им в самом себе процесса самотрансфор-мации. В ходе этого процесса он из носителя компонентов информации от различ- ных ветвей науки, разных дисциплин, превратился в того, в ком эти формы знания оказались органично соединены, сплавлены в нечто столь же целостное, сколь целостным является он сам.
Итак, знание соединяется человеком и происходит этот процесс в человеке, как в тигле, в котором, претерпевая трансмутацию, знание сплавляется в новую, прежде не существовавшую, не бывшую целостность. Как это происходит?
В творческом акте человек отождествляется с проблемной ситуацией, с творческой задачей, отдавая ей всю полноту своего внимания, и в этом смысле становясь ею [5]. В это время и он, и творческая задача, как независимо существующие данности пространства диссоциации, исчезают из мира разделенности и появляются в пространстве целостности как новое недвойственное образование, которого прежде не существовало: «человек - задача». Эта новая целостность в недуальном мире неразделенного, неделимого, слитого, сплавленного смыслового континуума эволюционирует со-глас-ованно, со-вмест-но. Она проходит единый путь трансформации–вызревания, который делает прежде разделенные составляющие сцепленными между собою, соединенными как мать и дитя в процессе вынашивания.
Можно ли по отношению к этому пространству целостности определить, кто кого формирует, кто кому навстречу идет: человек задаче или задача - человеку? Нет, потому что в самом этом пространстве недвойственности понятия субъекта и объекта не определены: в мире недуального противоположных начал, - как изолированно наличествующих данностей, - не содержится, их просто нет [6]. В этом едином целостном недвойственном поле са-мотрансформации прежде не существовавшей целостности–общности происходит алхимическая трансмутация, конечным продуктом которой оказывается рожденная от такого нового образования (недуальной сплавленности «человек– задача») нового ее состояния: того, на который система «выпала» как на аттрактор. Это некое энергетически устойчивое состояние, в котором изначально существо- вавшая неполнота, противоречивость, незавершенность проблемной ситуации (что и послужило импульсом к началу процесса научного поиска), обретает равновесие. В мгновение выпадения на аттрактор ранее существовавшая неделимая целостность «человек ≡ решаемая задача» превращается в суммативность «человек / решенная задача», которая, в свою очередь, уже вполне допускает разделение на составляющие: «человек как творец решения», и «решение как продукт его творчества».
Поэтому мое видение природы междисциплинарного синтеза таково: глубинный исток междисциплинарности - это не формальная, внешняя объединенность подходов, достигаемая в результате воплощения динамик внешнего регулирования науки, или поверхностная констатация наличия «сходных тем, идей, подходов» в разных областях знания, а интенция целостной природы трансформации так преобразуемого знания. В этом процессе прежде существовавшая раздробленность знания, обретя свое воплощение в личности ученого-исследователя, отождествившегося с проблемной ситуацией и осуществляющего данный синтез собою и в себе, достигает целостности вновь рожденного интегрированного знания. Центральной при таком понимании оказывается фигура человека, воплощающего этот новый статус феномена объединенности: не как сумма-тивность, но как новая, никогда прежде не существовавшая целостность.
Создание нового «общенаучного» языка?
Как уже отмечалось, динамики интеграции наук обычно связывают с процессами заимствования и переноса идей из одних областей знания в другие, использования методов и подходов одной дисциплины для получения результатов в другой. Но как осуществляется сам перенос, об этом редко кто задумывается. Однако, в соответствии с обозначенным выше пониманием, он может осуществляться по-разному. В рамках внешнего администрирования науки - экстенсиональный подход (например, приоритетная выдача грантов на междисциплинарные исследования), – велика вероятность, что ученые начнут искать такие «поверхностные» формы интегрированности, которые будут выглядеть многообещающе и актуально, хотя, по существу, это останется все та же внешняя объединенность, не влекущая качественного скачка подлинной новизны в рамках изучаемого. Полагаю, в результате простого суммирования усилий мы получим не междисциплинарный, а мульти-дисциплинарный подход (взгляд на один и тот же предмет с множественных точек зрения).
Осознание необходимости и перспективности разработки междисциплинарных подходов осознаётся многими специалистами. Однако не все понимают различие между поверхностной объединенностью знания и его внутренней сплавленностью. Последняя, имеет в своем основании стадию синтетического преображения в недуальной целостности с осуществляющей такое преобразование личностью ученого. Ориентированность на внешнее, поверхностное в интегративных процессах зачастую воплощается в странноватые формы администрирования науки. Например, некоторые производственные и научные корпорации для повышения коэффициента интеграции пытаются повлиять на частоту контактов сотрудников. Здесь можно упомянуть такие приемы, как организация кофе-брейков только в одно и тоже время и в одном и том же месте; обустройство курительных площадок таким образом, чтобы расширение круга знакомств и ареала общения становилось практически неизбежным. И даже организация туалетов всего лишь в одном месте, что вынуждает людей волей-не волей постоянно пересекаться и хотя бы поверхностно знакомиться и общаться [7].
Отдельные представители частных дисциплин ощущают наличие глубинной подоплеки интегративных динамик в развитии знания, но не осознают подлинной природы необходимых трансформаций, поэтому говорят о внешних атрибутах стимулирования тенденций к объединению исследований. Среди них - констатация необходимости создания общего языка науки, выработки общеметодологических приемов, активное врастание в предмет- ные области друг друга и др. [8]. Можно отметить и такой момент, как призывы к взаимному уважению и толерантности в целом [2], что также должно способствовать повышению вероятности налаживания продуктивного диалога.
Взаимоуважение - это, бесспорно, важная составляющая общенаучной этики. Однако и она, будучи инициированной извне, останется всего лишь фигурой речи, эдаким «реверансом толерантности», не определяя существа, сущности разворачивающихся динамик саморазвития междисциплинарного знания. Проследить, почему такие призывы, хотя и позитивно ориентированы, но не слишком эффективны, удобно на примере идеи формирования единого общенаучного языка, что, как предполагается, побудит представителей разных наук унифицировать результаты их деятельности, а это, в свою очередь, даст ученым возможность лучше понимать друг друга. Насколько оправданны такие чаяния?
Любой язык не является образованием, изолированно возникающим и функционирующим вне и независимо от других сфер жизнедеятельности человека. В соответствии с гипотезой лингвистической относительности Сепира-Уорфа, языковой строй влияет на то, каким человек видит мир и самого себя. Люди, говорящие на разных языках, по-разному постигают жизненное пространство (эту формулировку можно считать слабой версией гипотезы). Но есть и более сильный вариант, в соответствии с которым языковой строй буквально навязывает человеку способ само- и мировидения. И поскольку существующие языки довольно сильно различаются (есть среди них и весьма экзотические варианты: «Антропологами описаны языки, не знающие цветов и чисел, будущего времени. И наоборот, есть языки, где невозможно что-либо сказать без уточнения, насколько хорошо ты это знаешь, или различающие больше сотни родовых групп (вместо мужского, женского, среднего)» [9]), постольку структуры мировосприятия различных культурных общностей так же весьма различны. Вот, в частности, почему использование единствен- ного естественного языка (пусть даже стихийно выбранного в качестве средства междисциплинарного общения и действительно способного опосредовать межкультурный диалог), тем не менее, несет и ряд серьезных ограничений для адекватности выражения мыслительного строя представителей других культур.
В настоящее время в качестве такого универсального языка науки устойчиво используется английский язык. Он и в самом деле обеспечивает возможность осуществления межкультурной и междисциплинарной коммуникации, но вместе с тем, нельзя не отметить, что в качестве такого средства он имеет и немало несовершенств в плане адекватности репрезентации научных идей. Это связано, в частности, с категориальным строем самого языка, который и формировался, и развивался как средство выражения и оформления само- и миропонимания совершенно определенного англоязычного социума, имеющего свою систему культурных верований и социальных ориентиров.
Об этом, в частности, говорит в своем интервью изданию «В мире науки» / «Sci-entific American» директор Института философии РАН, академик А.В. Смирнов. Он обращает внимание на то, что язык – это не набор знаков и символов, это, прежде всего, связность, способ выстраивания мысли и восприятия. Философия, лишающаяся возможности выражать себя на языке рождения своей мысли, многое теряет [10]. Надо иметь в виду, что мысль, выраженная на английском – не та же самая, что изначально родилась и была представлена на русском языке.
Идея создания унифицированного языка научного общения еще и потому выглядит утопичной, что структура мышления и его репрезентация в языковых выражениях – не две самостоятельно существующих независимых плоскости: одно не появляется вслед за другим и не вытекает из другого. Это как две стороны одного листа бумаги: наличие одной стороны автоматически означает наличие другой, и одно без другого существовать не может. Точно так же мышление и его выражение в языке – это две неразрывно соотнесенные данно- сти, непрерывно перетекающие друг в друга, когда мысль становится языковым выражением, а выражение максимально точно репрезентирует мысль в едином усилии достижения предельной адекватности. А это значит, что для того, чтобы мысль оформилась в искусственном языке, о перспективности создания которого говорят вышеупомянутые авторы, надо чтобы она в нем родилась, – только тогда подобная форма выражения будет органичной. Рождение мысли в единстве и сопряженности с одним языком, а потом ее трансляция (даже самая удачная) на другой язык, изменит замысел того человека, в недуальной целостности с личностной трансформацией которого она родилась. Поэтому выражение всех результатов научных исследований на английском языке принудительно как бы подгоняет бесконечно богатые и разнообразные структуры, образы, стили мышления людей разных культур под один и тот же шаблон. И поскольку в современном мире все громче звучит идея полицентричности мирового процесса, мне кажется, что и по отношению к теме выбора языка, как средства межкультурного диалога, следовало бы отнестись более гибко. Например, признать за несколькими языками, на которых говорит значительная часть населения земного шара, право на то, чтобы играть роль инструмента междисциплинарного общения.
Суммативность vs целостность в междисциплинарном синтезе
Таким образом, можно сказать, что суммативность (как результат сложения усилий и совмещения подходов) не есть целостность. Это форма механической объединенности того, что продолжает оставаться изолированным, создавая лишь иллюзию соединенности с другими изолированными формами опыта. Поверхностная интегрированность – следствие реализации экстенсионального понимания междисциплинарности, предполагающего процедуры сложения, но не взаимопроникновения, соединения, но не синтеза, объединения готового, ставшего, но не рождение нового, выплавляющегося, вы- зревающего в самом этом пространстве самотрансформации.
Напротив, целостность ни на одном из этапов своего вызревания из частей не состоит и готового содержания, привносимого извне (в статусе уже сформированного, окончательно ставшего знания), не включает. Элементы или составные части целостности могут быть выделены лишь тогда, когда к ее восприятию обращен диссоциированный разум исследователя, изучающего интересный ему феномен, однако противопоставляющий себя этому феномену (исследовательская позиция стороннего наблюдателя: «Это Я, а это – некое «оно», «другое», от меня отличное»). Сама же целостность – как явление – ни составных частей, ни элементов в себе не содержит, поскольку ни на одном из этапов своего вызревания из них не состоит.
Творческая задача – это не то, что существует вне пространства жизненности ученого. Когда мы смотрим на ситуацию с позиции «Я/Оно» («Вот человек, решающий задачу, а вот задача, решаемая им»), мы оказываемся в реальности изолированных существований, в мире разделенности, где объединенность возможна только как внешняя, по формальным основаниям осуществляемая. И напротив, в режиме формирования и эволюции новой целостности, в состоянии творческой захвачен-ности, человек отдает всю полноту своего внимания увлекшей его проблеме. В этом состоянии он перестает воспринимать себя как нечто иное, инаковое, изолированное по отношению к ней, а ее, как своеобразное «не Я» по отношению к себе. В результате барьер иноприродности, разделяющий обычно субъекта и объект в пространстве изолированных существований, растворяется, и в этом едином целостном поле неразрывно слитого, сопряженного взаимодействия устанавливается единая пульсации жизненности. Именно это позволяет такой самоорганизующейся, само-трансформирующейся целостности завершать свою динамику «выпадением на аттрактор», когда исходная неполнота, противоречивость и нецелостность оказывается преодолена.
Если в первом случае (при взаимодействии человека с проблемной ситуацией с позиции «Я/Оно») для реализации творческого потенциала требуется прибегать к уловкам, хитростям, чтобы «заманить» задачу «в ловушку решения» [11], то в случае перехода на позицию «И это тоже Я» – мировидения творчество разворачивается как естественный и гармоничный процесс самотрансформации возникшей целостности, протекающий, скорее, в соответствии с «путем» Моцарта, чем Сальери, скорее Пушкина, чем Маяковского (когда «единого слова ради» требуется перелопатить тысячу тонн словесной руды).
Заключение: Вклад философии в интегративные процессы объединения знания
На мой взгляд, вся наличествующая на сегодняшний день интеграция – плод усилий отдельных личностей, достигших в своих областях знания такой глубины понимания, когда осознаётся, что дальнейшее продвижение требует привлечения сведений из других областей науки. Это люди, которые в своем творческом поиске реализуют междисциплинарность за счет ознакомления с областями знания «смежников», становясь экспертами в обеих сферах и высказывая интересные мысли, находящиеся на стыке разных дисциплин. Их можно назвать алхимиками интеграции, поскольку новые видения, новые подходы рождаются в них и ими, как естественный результат того, что они сами стали носителями такой интегрированной новизны, превратились в живое воплощение синтетического воззрения.
Но чувствительна ли к таким процессам личностного синтеза институционализированная наука, наука как сфера массированных трансформаций знания?
Мы можем говорить о творчестве коллективном, о творческом потенциале групп, но в основе всегда остается индивидуальный ученый как целостное неповторимое пространство глубинных смыслов, рожденных личностным опытом, генетически и исторически обусловленное предрасположенностью к творческому «И это тоже Я» – мировидению. Индивидуальный человек-исследователь предстает как та питательная среда, в которой вызре- вает творческое решение, который вынашивает будущий продукт творчества. Предполагать иное - все равно, что верить, что ребенка может родить не женщина, а целый коллектив единомышленников. Коллектив может создать благоприятные или неблагоприятные условия последующего роста и развития инновации, но рождает, создает продукт - единичный человек. Поэтому вся алхимия междисциплинарного синтеза инновации реализуется именно в отдельном человеке как источнике и инструменте формирования и трансформации новых, ранее не существовавших смысловых общностей-целостностей.
Какова роль философии в этом непростом потоке динамик знания?
Если понимать истоки креативности (а наука - это в первую очередь, инструмент обеспечения креативных результатов и для отдельного человека, и для коллективов ученых), то можно хотя бы осознать, в каком направлении перспективно двигаться, а в каком бессмысленно: черную кошку в темной комнате, в которой ее нет, найти не получится, какие бы усилия ни прилагались для ее обнаружения. Нужно сначала определиться, где эта кошка в принципе может находиться.
Так где же тот путь, следуя которым можно надеяться достичь искомого синтеза усилий в деле исследования человеческого сознания? Как добиться действительного синтеза различных отраслей науки, осуществленного не в умах и судьбах гениальных одиночек, а институционализированной наукой, - именно как целыми отраслями знания?
Подлинный междисциплинарный синтез осуществляется лишь в пространстве недуальной целостности всей полноты экзистенции человека-личности-ученого, который в состоянии стопроцентной захва-ченности предметом интереса, решением творческой задачи, перешагнул через барьер «Я/Оно» ограниченности в отношении к проблемной ситуации и стал воплощать собою и в себе альтернативную установку «И это тоже Я» - видения. Институционализированная наука, «наука научных масс», тоже чувствительна к это- му ключевому творческому преображению. Но в умах большинства исследователей все еще бессознательно и некритично доминирует ограничивающая установка «Я/Оно» - миропонимания, - и в отношении других отраслей знания, и в отношении оценки перспектив междисциплинарного синтеза, и, нередко, в отношении самого процесса порождения нового, т.е. творческого процесса. И именно философия, привыкшая анализировать не только собственные установки и основоположения, но и методологические динамики, разворачивающиеся в рамках других наук, способна не только обозначить слабые места в умопостроениях представителей конкретно-научного знания, но и обосновать свои суждения, что, конечно же, более надежно, чем попытки управлять наукой за счет внешнего администрирования.
В свете всего вышеизложенного, роль философии творчества в междисциплинарных исследованиях человека можно обобщить в следующих констатациях:
-
1) поскольку творчество - это максимальное проявление всего потенциала человеческих возможностей (и мыслительных, и выразительных, и эмоциональных, и душевно-духовных), исследуя процессы творчества в их обобщенной форме, она способна обозначить ключевые пункты механизма творческой самотрансформа-ции человека, что может служить ценным ориентиром для определения перспективных направлений движения мысли в рамках конкретно-научных дисциплин;
-
2) выстраивая логику творчества, она может показать, на каких направлениях движения мысли не следует ожидать позитивных результатов, потому что в основании таких ожиданий лежат неверные логико-методологические установки;
-
3) она может обосновать, какая трансформация собственных мировоззренческих позиций исследователя сделает достижение им творческого прозрения (при прочих равных условиях) наиболее вероятным;
-
4) она может объяснить, что происходит, когда человек одержим творческой идеей, и почему кто-то легко и непринужденно творит, как дышит, а кто-то преодо-
- левает барьеры и сражается за результат. И то, и другое, – безусловно, творчество, но разное. И философия способна это обосновать, стимулируя ученого осознанно выбирать путь собственного движения в ходе порождения нового знания;
-
5) она в состоянии обрисовать природу той глубинной алхимической трансформации, которую бессмысленно искать на путях реализации «Я/Оно» – установки, а также обосновать, почему противоположная ей установка «И это тоже Я» – само- и миропонимания способна порождать глубинный междисциплинарный синтез.
В настоящее время большинство ученых все же склонно искать перспективы междисциплинарности на путях экстенсивного объединения усилий. Но не нужно заблуждаться: собрание множества частных видений в целостный образ человека никогда не превратится вне недуальной целостности со всей полнотой экзистенции живого человека, воплощающего собою и в себе этот синтетический процесс транс- мутации, алхимического превращения прежде разрозненных компонентов знания целостность. Чтобы родить целостность, человек сам должен стать целостностью, и именно такое самопревращение и происходит, когда он в состоянии творческой одержимости сливается с предметом исследования, теряя себя в нем и проживая как часть себя все совершающееся в пространстве такого синтеза.
Сознание как живое никогда не будет моделировано на пути механического объединения подходов разных когнитивных дисциплин в их попытках родить междисциплинарное видение, не трансформируя при этом основную единицу алхимического превращения – самого человека, осуществляющего усилие синтеза. Пока человек сам не трансформировался из суммативно-сти, формально объединяющей знания из разных областей науки, в целостность, в которой не осталось места ни субъекту знания, ни объекту интереса, ни процессу интеграции, ни его результату, ни знаемо-му, ни тому, кто этим знанием наделен, – до тех пор качественный скачок в прира- щении знания о природе человека не произойдет.
-
в никогда до этого не существовавшую
Список литературы Философия творчества в истолковании феномена междисциплинарности
- Golledge R.G. Multidisciplinary Opportunities and Challenges in NBIC // The Coevolution of Human Potential and Converging Technologies / Ed. by Mihail C. Roco and Carlo D. Montemagno. Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 1013. N.Y.: New York Academy of Sciences, 2004. P. 199-212.
- Nichols R.W. Opening Remarks // Unity of Knowledge: the Convergence of Natural and Human Sciences (ed. by Antonio R. Damasio et al.) New York: The New York Academy of Sciences, 2001. P. IX-XI.
- Библия. Еккл.: гл. 3.
- Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http.gumer.info›bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2
- Судзуки Д.Т. Мистицизм: христианский и буддистский. - Киев: ИД "София", 1996. - 288 с.