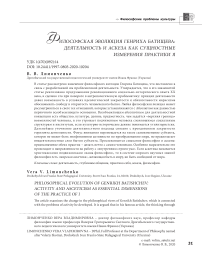Философская эволюция Генриха Батищева: деятельность и аскеза как сущностные измерения практики я
Автор: Лимонченко Вера Владимировна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философские проблемы культуры
Статья в выпуске: 2 (94), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено изменение философских взглядов Генриха Батищева, что поставлено в связь с разработанной им проблематикой деятельности. Утверждается, что в его знаменитой статье реализовано продумывание революционного социально-исторического опыта ХХ века, и сделано это при повороте в антропологическую проблематику: принцип деятельности давал возможность в условиях идеологической закрытости и обязательности марксизма обосновывать свободу и открытость человеческого бытия. Любая философская позиция может рассматриваться в свете тех отношений, которые устанавливаются с Абсолютом как данностью первичного всеобъемлющего основания. Всеобъемлющим абсолютным для деятельностной концепции есть общество, культура, деяние, предметность, чем задаётся «верхняя граница» возможностей человека, и это угрожает подчинением человека сложившимся социальным структурам и институтам, если культурно-историческое деяние понимается утилитаристски. Дальнейшее уточнение деятельностного подхода связано с преодолением закрытости горизонта деятельности. Фокус внимания перемещается на такое самоизменение субъекта, которое не может быть эпифеноменом активности по преобразованию мира, но предполагает внедеятельностные слои бытия субъекта. Прослеживается смыкание философии и аскезы: предназначение обеих практик - делать нечто с самим человеком. Особенно выразительно это происходит в направленности на работу с «внутренним строем ума». Если аскетика называется христианскими подвижниками «наша философия», то в системе мирских научных знаний философия есть «мирская аскетика», желающая быть в миру, но быть свободной от мира.
Деятельность, глубинное общение, практика себя, аскеза, философия
Короткий адрес: https://sciup.org/144161356
IDR: 144161356 | УДК: 1(470)(092):14 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10204
Philosophical evolution of Genrikh Batishchev: activity and asceticism as essential dimensions of the practice of I
The article examines the change in the philosophical views of Genrikh Batishchev, which is connected with the problems of activity he developed. It is argued that in his famous article, the thinking through of the revolutionary social-historical experience of the twentieth century was realized and this was done with a turn into anthropological problems: the principle of activity made it possible, in the conditions of ideological secrecy and the obligatory nature of Marxism, to substantiate the freedom and openness of human existence. Any philosophical position can be viewed in the light of the relationship that is established with the Absolute as a given of the primary all-embracing foundation. The all-encompassing absolute for the activity concept is society, culture, action, objectivity, which sets the “upper limit” of a person's capabilities and this threatens the subordination of a person to established social structures and institutions, if the cultural-historical act is understood utilitarian. Further refinement of the activity approach is associated with overcoming the closed horizon of activity. The focus of attention is shifted to such a self-change of the subject, which would not be an epiphenomenon of activity to transform the world, but presupposes non-activity layers of the subject's being. The closeness of philosophy and asceticism is traced: the purpose of both practices is to do something with the person himself. This happens especially expressively in the focus on working with the “inner” structure of the mind. If asceticism is called “our philosophy” by Christian ascetics, then in the system of worldly scientific knowledge philosophy is “worldly asceticism” that wants to be in the world, but be free from the world.
Текст научной статьи Философская эволюция Генриха Батищева: деятельность и аскеза как сущностные измерения практики я
Многим памятен спор 70–90 годов ХХ века по поводу сущности и места категории «деятельность». По нашему мнению, не будет большим преувеличением считать инициирующими этот спор взгляды Г. С. Батищева – столь радикально изменившиеся к этому времени. При том, что сейчас этот спор хотя и стал менее активным, но вовсе не утратил актуальности, сущностные параметры его сдвинулись в дискурс культурно-исторической психологии, что связано с именем Л. С. Выготского, в форме философского дискурса эта проблематика актуализируется мыслителями, разрабатывающими проблематику деятельности при опоре на наследие Эвальда Ильенкова и Феликса Михайлова, и эти два русла мысли давно уже вышли за пределы российского и постсоветского пространства.
Однако то измерение деятельности, осмысление которого привело к сдвигу в мировоззрении Г. С. Батищева, практически оставлено без внимания: его обращение к православию и в связи с этим к феномену общения упоминается достаточно часто, но это связывается с неприятием проблематики деятельности, хотя, на наш взгляд, взаимосвязи этих двух, на первый взгляд, противоположных установок намного сложнее. Именно поэтому мы не говорим о радикальном изменении в его мировоззрении – хотя марксизм и православие могут рассматриваться как коренным образом несовместимые, но при углублении в дискурс русской философии (и религиозной, и секулярной) они предстают во внутренней взаимодополнительности, к чему и отсылает заглавие статьи. К сожалению, известные нам варианты углублённо-нюансированного понимания теории культурно-исторической деятельности не сопряжены с таким же утончённым видением специфики христианского сознания. Остаётся позиция, движимая искренним интересом и к первой, и ко второй формам мысли. Показательно, что в истории русской философии наиболее яркие и выразительные по своей логичности и глубине философские концепции представлены мыслителями, творческий путь которых кратко име- нуют «от марксизма к идеализму». Назовём наиболее известных, хотя в целом это далеко не исчерпывающий перечень. С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк сводят воедино проблематику активности человека в историческом пространстве культуры и религиозную тему преображения человека. В. В. Зеньковский отмечает философскую работу представляющих социально-политический радикализм западников, которые по-новому продумывают и углубляют религиозный дискурс «теургического беспокойства» – чувством ответственности за историю и исканием путей к активному вмешательству в ход истории [7, с. 245]. Авторы «Вех» проделывают дальнейшую работу по осмыслению оснований человеческой активности, это же характерно и для изменения акцентов во взглядах советского философа Г. С. Батищева.
Субстанциальность человека в деятельности: обоснование открытости человеческого бытия
В 1960-е годы выходит статья Г. С. Батищева, в которой реализовано продумывание революционного социально-исторического опыта ХХ века, и сделано это было при повороте в антропологическую проблематику. Основные её идеи предстают экспликацией мировоззрения «оттепели»: принцип деятельности давал возможность в условиях идеологической закрытости, обязательности марксизма обосновывать свободу и открытость человеческого бытия. Ставшее смысловым штампом различение К. Поппером открытых и закрытых обществ имеет выраженный идеолого-политизированный характер, что характерно для либерализма, проблематика деятельности, раскрытая Г. С. Батищевым, углубляет постановку проблемы до антрополого-метафизических оснований.
Интеллектуальная работа шестидесятников связана с осмыслением русской Гражданской войны, причём календарная дата окончания её, на наш взгляд, обозначает переход Гражданской войны в новую фазу, а не действительное прекращение, гораздо более убедительна для нас иная дата – 1956 год, от которой и исходит импульс осмысления некоторого завершившегося исторического этапа. Исходно-первичным смысловым центром деятельности как философского принципа есть характеристика деятельности как способности человека «вести себя не в соответствии с организацией своего тела, не в качестве раба “специфики” своего организма, а в соответствии со специфической логикой каждого специфического предмета; <…> быть не телом наряду с прочими телами, не конечной вещью среди прочих конечных вещей, а предметно-деятельностным “существом”, деятелем» [2, с. 82]. И отсюда – дух проблемно-критического отношения к миру, отбрасывание таких решений, которые претендуют быть окончательными. Поэтому, как только логика осмысления деятельности выявляет субстанциалистские притязания такого подхода, мера универсальности деятельностного принципа снижается. Как субстанциализм с его отождествлением собственного, достаточно земного голоса «с голосом самой по себе Субстанции, так что она будто бы не только до конца ему прозрачна и ясна насквозь, но и вещает через него как через своего земного представителя» [3, с. 172], так и анти-субстанциа-лизм, чреватый самодовлеющим активизмом, что, по сути, есть субстанциализирование своецентричности человека, не могут быть приняты в своей однолинейной последовательности. Как первая, так и вторая позиция урезает, ограничивает человека, по-видимому наделяя его в первом слу- чае преодолением конечности и частичности своего особенного бытия, во втором – преодолением страдательной вторично-сти человека. Принцип деятельности выводит за пределы одномерных заблуждений, утверждая, что «человек живёт миром» – человек своей деятельностью продолжает природное становление, присваивая природную субстанциальность. Одновремен- но происходит преодоление вещно-принудительной формы необходимости через созидание принципиально новых возможностей в мире культуры, и тем самым человек созидает самого себя, есть сам «свой собственный продукт и результат». Диалектика деятельности выявляется через три уровня, «последовательно отрицаемые и снимаемые друг другом». Синтезирующим, разрешающим противоположную двойственность есть вывод: «Истина заключается не в выборе между ничтожностью субстанции объективного мира и ничтожностью человека, а в постижении субстанциальности человека в деятельности» [2, с. 81]. Человек «постигает себя как всецело общественного, культурой образованного и деянием живущего наследника-творца, как субъекта предметной деятельности» [2, с. 81]. Погружение в идеи ранней статьи Г. С. Батищева имело целью последовательное выведение антропологической формулы, характерной для определённой формы самоосуществле-ния человека.
«Переход от марксизма к идеализму»: отход от философии или движение внутри философии?
У С. С. Хоружего есть зоркое замечание: «… всякая состоятельная и состоявшаяся антропологическая стратегия или модель имеет своим порождающим ядром некоторый мистический опыт» [17, с. 6]. Принимая тот факт, что понимание «мистическо- го опыта» слишком многоразлично, обратим внимание на тот вариант понимания мистики, который в истории философии реализован славянофилами, В. С. Соловьёвым, С. Н. Трубецким, С. Л. Франком, П. А. Флоренским, Л. П. Карсавиным, а наиболее всесторонне и целостно обоснован В. Н. Лос-ским. Имеется в виду традиция такого понимания, когда мистический опыт – не не- что парадоксально-таинственное, редко встречающееся и потому тяготеющее к патологической видимости, а первичное основание любого сознательного акта. И понятийное, и чувственное вторичны от первичной погружённости во всеобъемлющее бытие, что имеет и другую формулировку – и понятийное, и чувственное производны от способа данности Абсолюта.
Большинство исследователей связывают с мистикой религиозную практику, имеющую цель непосредственного слияния с Абсолютом, однако и секулярные формы мысли в её измерениях всеобщности и необходимости содержат в себе предельную меру, заданную Абсолютом, для светской традиции размышления его принято называть идеалом. Характер отнесённости к нему определяет тип мысли. Мистический опыт есть выражение первичной бытийственной установки и указывает на способ отношений с Абсолютом. Увлечённость в конце ХIХ века русскими мыслителями марксизмом не раз обосновывалась и тем, что марксизм утоляет жажду абсолютного, раскрывая горизонты относительной условности, и это говорит о существенном отличии марксизма от узкого горизонта позитивизма.
Всеобъемлющим абсолютным для деятельностной концепции есть общество, культура, деяние, предметность [2, с. 81], то есть общественное культурно-историческое деяние задаёт «верхнюю границу» воз- можностям человека. Признание исходной и порождающей основой человека именно деятельности в её предметной целесообразности угрожает подчинением человека сложившимся социальным структурам и институтам, если культурно-историческое деяние понимается утилитаристски. Деятельностный подход таит в себе опасность мистифицирования социально-революционной установки, когда социальное благо наделяется параметрами Абсолюта, то есть именно социально-государственное служение задаёт горизонт для всей сферы осуществления человека. Можно отметить правовой тупик Нюрнбергского процесса, когда нацистские преступники не признавали собственной вины, поскольку они не нарушали законов своего государства. Нашумевший и преданный остракизму сборник «Вехи» и есть продумывание оснований мистифицирования социального блага (легитимизированного общественного блага) как Абсолютного горизонта и неминуемо наступающих следствий, но предупреждение услышано не было.
А. А. Хамидов, тщательно анализируя вехи философского пути Г. С. Батищева, отмечает особенную роль понятийной работы, произведённой Батищевым, – заметим, что благодаря осмыслению распредмечивания углубляется понимание сущности человеческой деятельности в её антропологическом аспекте: «человек находит себя в предметном мире и только в нём одном, но отнюдь не в качестве одного из предметов или их совокупности» (цитата Батищева приведена А. А. Хамидовым [16, с. 21]). Для А. А. Хамидова при этом важно показать, что при этом сохраняется верность субстанциалистско-му подходу, это он и демонстрирует. Однако дальнейшее движение Батищева он считает отходом от философии, с чем нельзя согласиться.
Дальнейшие шаги Г. С. Батищева, приведшие к решительному отходу от прежних взглядов, получают странно упрощённое объяснение: знакомство с учением Агни-Йоги и письмами А. А. Ухтомского поколебало «уверенность Г. С. Батищева в том, что предметная деятельность является единственным и универсальным способом бытия человека в мире» [16, с. 23]. Знакомство с какими бы то ни было идеями может быть действенно лишь в случае «заполнения ими пустот» в собственных воззрениях – крещение и принятие православия не начинает новый период его творческих поисков, но обозначает видимую точку уже происшедшего выбора. Причём показательно то, что учение Агни-Йоги не стало точкой выбора, что можно объяснить неприятием возможного растворения субъектности, когда происходит прямолинейное отбрасывание антропоцентричной активности деятельности, в то время как христианское сознание содержит два полюса: человек как предельная мера даёт своеволие активизма, Бог как предельная мера сводит активность в ничто и благословляет недеяние, но ситуация Христа как центрального события христианства выводит за пределы формальной противоречивости – сохраняя центральную роль человеческого измерения, вводит вектор преображения человека, возвращая предельную активность человеку, но вектор волевого напряжения изменён. Проблематика глубинного общения содержит эти два полюса: хотя её и возможно прочитать в «конспиративном» ключе переименования религиозного отношения [16, с. 31], однако вводится она философским (мыслительным) движением углубления оснований, поэтому, на наш взгляд, говорить об отходе от философии неточно, это выраженный философский дискурс поиска и обоснования истинных форм человеческого бытия.
Нам приходилось обращаться к созвучности двух привычно несовпадающих формообразований мысли – гегелевской феноменологии сознания и лестницы аскетического восхождения, проработанной в восточном мистическом христианстве [9]. Обе формы размышления не позиционируют себя антропологией, но тем не менее обе удерживаются смысловым средоточием, которым является человек. Данная аналогия тем более интересна, что и Гегелю, и христи- анскому аскетическому монашеству ставится в вину пренебрежение индивидуальным волением и подчинение индивида всеобщему (что видится ситуацией закрытости), в то время как можно утверждать, что и гегелевский, и христианский варианты осмысления человеческого бытия есть способы преодоления конечности и ограниченности индивида, а значит, это пути открытости.
На наш взгляд, уже в работе Г. С. Батищева 1960-х годов можно увидеть те болезненные точки, которые открывают пути для дальнейшего движения. Эти болезненные точки сформулированы в виде антиномий, не предполагающих логического разрешения, но создающих особенное напряжение сопряжения двух логик – это то измерение деятельности, которое В. С. Соловьёв обозначил как «внутренняя работа самого деятеля» [13, с. 309] (у Гегеля, по Куно Фишеру, это годы учения сознания), и возможности выхода из неразрешимой ситуации выбора между двумя логиками появляются именно здесь.
Дальнейшее уточнение деятельностного подхода связано с преодолением закрытости горизонта деятельности. Практически всегда признаётся, что деятельность как определённая форма активности не ограничивается извне заданными рамками и способна к «перепрограммированию» путём преобразования наличной данности бытия.
Эта проблема формулируется как проблема творчества, которой посвящено необъятное количество литературы. Для Г. С. Батищева оправданным и убедительным есть такой подход к проблеме творчества, который уходит от понимания его и как механической перекомбинации исходно данных элементов, и как детерминации психологически особенным характером, и как последовательного разворачивания спрятанных возможностей. Искомая спецификация твор- чества выявляется через понятие «порог» – творчество есть «прогрессивное сдвигание самих порогов распредмечиваемости, ограничивающих деятельность и замыкающих её в её собственной сфере», «креативность отнюдь не “монологична”, не моно-субъектна, как бы социально и исторически ни был опосредован сам субъект, но по сути своей междусубъектна. Последнее отсылает нас к проблематике глубинного общения» [4, с. 29]. Трудно ошибиться, угадывая за этим то, что религиозное сознание называет проблемой спасения, – преодоление неистинного и неадекватного существования. Посмертная публикация Г. С. Батищева так и называется – «Найти и обрести себя». Если деятельностный подход ограничивает деяние человека внутримировым «допороговым» отношением, то глубинное общение есть путь прорыва к устраняющему отчуждённые формы существованию.
Проблематика глубинного общения в центр внимания ставит онтологический статус общения, противополагая ему «коммуникативные соприкосновения и контакты, взаимодействия и обмены», которые имеют отношение к сущему (онтическому горизонту). Глубинное общение противостоит подмене «самокритичного искания неким антропоморфным или социоморф-ным образом абсолютного, исключающим всякую ещё не открытую нами воз- можность, запредельность, таинственность <…> Печальна подмена диалектики встречи, бесконечной встречи с действительностью – самозамыканием в логическом преформизме» [3, с. 172]. Если вспомнить проблематику размышлений М. Хайдеггера и его формулировки, то деятельностному подходу соответствует ситуация «забвения бытия», которая ставит человека в позицию «господина сущего» и отдаёт его во власть «диктатуры публичности», когда человек «вывернут в мир и ограничение иными вещами конституирует» его. При всём том, что деятельностный подход в понимании человека предполагает формы общения внутри себя, но это такое общение, которое своим внутренним «механизмом», способом осуществления имеет опредмечивание-распредмечивание, и, следовательно, неизбежна редукция многоуровневого к одноуровневому, разнородного к органической однородности. В этом смысле деятельность своемерна – «своё развитие она допускает лишь как укрепление и обогащение себя и как торжество над снятым ею инородным содержанием. Она накладывает на мир “заранее данный масштаб”» [4, с. 31]. Особое качество деятельности – детерминация предметом, в то время как в предметности уже присутствуют «метки» и цели, категориальные узлы и структуры самого субъекта. Чтобы разорвать эту замкнутость, необходима более радикальная открытость, выход за пределы наличной ка-тегориальности субъекта. Фокус внимания перемещается на такое самоизменение субъекта, которое не было бы эпифеноменом активности по преобразованию мира, но предполагает особенное, как бы «наддеятельностное», отношение субъекта к миру и к самому себе как могущим быть Иным, то есть предполагает внедеятельностные слои бытия субъекта.
Аскеза как вариант активности инаковой деятельности
Этот особенный тип активности издавна знаком человечеству как опыт аскезы, рассмотрение которого углубляет понимание и проливает новый свет на проблематику деятельности. Если обыденно-секулярное понимание видит аскезу установкой на закрытость и подчинение человека жёстким рамкам, то даже первое ознакомление открывает иное. Уже греческое понимание аскезы кроме аспекта методичного повторения, закалки, физических упражнений дополняется духовно-нравственным воспитанием духа и воли. В дальнейшем эти два момента становятся центрирующими на себя суть аскезы, в силу чего возможны варианты от умерщвления плоти до очищения души.
Христианская трактовка аскезы реализуется в опыте монашества. Христианская аскетическая литература содержит своеобразную метафизику человеческого бытия. Внешние параметры жизни аскета – жизнь замкнутая и отрешённая, уходящая от мира. Но в этом удалении от мира есть своя парадоксальная особенность – оно начинается тогда, когда мир принял для себя христианство. Переселение в пустыню начинается, когда империя становится христианской. В этом можно видеть бегство не от житейских невзгод, но от благополучия, усыпляющего и умиротворяющего. Г. Флоровский бегство из воцерковляемого мира связывает не столько с воздержанием или отказом от излишеств, но и с отказом от наличных социальных связей – «не столько от Космоса, сколько именно от Империи» [15, с. 488]. Исход из мира есть разрыв натуральных связей родства и гражданственности ради Иного Отечества – авва Арсений в заострённой форме указывает на это: «Не могу быть сразу и с Богом, и с людьми» [15, с. 493]. Мироненавистнические и крайние формы аске- тизма не становятся каноничными – они имеют место как особенные и личные. Аскетическое изуверство, чаще всего поминаемое светской либеральной мыслью, наибо- лее распространено в сектантских движениях, склонных к ересям. В то время как уже у Антония Великого, положившего начало уединённо-пустынному подвижничеству, среди его наставлений находим преду- преждение против чрезмерности – как лук от натяжения сверх меры переломится, «так и в деле Божьем: если мы сверх меры будем напрягать силы братий, то они скоро расстроятся» [6, с. 65]. Утверждение «внутренний строй ума превосходнее телесных подвигов» [6, с. 183] чётко указывает на иерархию усилий – телесные подвиги есть способ и путь восхождения человека. Первая черта образа человека – удобоизменяе-мость его природы, способной уподобляться и низшему, и высшему. Разрыв с миром и безусловность монашеского отречения есть «выход из городской или политической» жизни. Подвижничество изменяет фокус внимания – творческое становление человека и есть то единое на потребу, к которому прилагается всё остальное.
У позднего Г. С. Батищева формула «не деянием единым жив человек» есть прямое выражение монашеской уединённой созерцательности, и невозможно понять коррективы, вносимые в деятельностное понимание человека через введение проблематики творчества и глубинного общения без осмысления опыта аскезы. Именно аскеза преодолевает власть социоморфизма, когда образ человека обретаем через уподобление социальным структурам, безличному массовидному Man, публичности, и вводит иное измерение. Упоминаемый ранее правовой тупик Нюрнбергского процесса устранён С. Кьеркегором: человек находится в абсолютном отношении к абсолютно- му [8, с. 109], разрывая горизонт относительности социальных структур.
«Исходный элемент установки – именно Спасение: это, по сути, просто – открытые глаза на ситуацию человека, глаза и уши, отверстые к реальности; пробуждение к бытию, осознание себя в мире» [17, с. 73]. Путь к такой открытости – воздержание, целомудрие, послушание, что в обыденной уста- новке соответствует закрытости и ограничению. Но это – отказ от мира и от всего, что в мире преодолевает горизонт обыденного мышления. Привычное слово «покаяние» как необходимое условие Спасения и есть «умопремена», перерождение ума, который начинает работать в ином режиме, с иными горизонтами. И опять-таки: если покаяние и имеет форму «памяти о своих грехах и о своей низости», то смысл его иной – преодолеть тотальное господство мирского, открыв видение Иного. «Видение своих грехов лучшее из видений, ещё лучше видеть чужие добродетели» [15, с. 493]. Осознание нахождения себя в низинах происходит через видение высшего света – покаяние не может быть реализованным через «дурную бесконечность падений-сожалений», но через открытость перспективы восхождения.
Особенное место занимает послушание, в котором можно видеть парадоксальный способ преодоления власти социоморфизма. Как помним, предметный характер деятельности предполагает погружение в предмет, схождение сознания и предмета, растворение в предмете до самозабвения, чтобы дать возможность проявиться самому предмету. Такое состояние устранения себя (антропоцентризма) может видеться полной пассивностью, но достигается оно действием всецелой активности – поскольку не происходит само по себе, а предполагает серьёзную работу укрощения самовластия. Послушание предполагает минимальное привнесе- ние себя при максимальности присутствия себя. Это не пассивность, скорее, независимость от внутренних и внешних впечатлений, отсечение преходящего и случайного, выход из самозабвения и потому – нахождение самого себя. Смысловое пространство послушания – очищение и предельное бодрствование, противостоящие пленённости миром, сонливости и рассеянности.
Послушание имеет два центра – отсечение своеволия и способность слышать. Если отсечение своеволия освобождает от случайности и частичности собственного мнения и опыта, вводя выверенное соборным опытом измерение (можно вспомнить П. А. Флоренского – «в канонических формах дышится легко» [14, с. 455]), то способность слышать противостоит безвольности подчинения.
Возвращаясь к смыслам грамматических форм, заметим, что в русском языке пассивный залог именуется страдательным, причём терминологическое упоминание страдательности обращает внимание на один момент – претерпевание действия, а не совершение его, что соответствует субъ-ект-объектной различённости. Однако освобождённое от терминологической узости слово «страдание» перестаёт быть обозначением действия извне, превращающего его в объект: претерпевающий страдание остаётся субъектом, то есть ему самому принадлежит способность ответа – под воздействием активного деяния объект обретает такие изменения, которые заранее однозначно установлены, чего не происходит в ситуации человеческого страдания. Если и называть христианство пассивным антропоцентризмом (А. А. Хамидов [16, с. 23]), то надо учесть нетерминологическую широту «пассивности», открываемую при употреблении слова «страдание»: именно уязвлённая страданиями душа Радищева обрета- ет импульс творчества – творческая активность человека рождается из способности быть открытым тому, что не есть изначально данным, но по восприятии и приятии чего происходит становление человека как природы творящей. Поэтому человек не может быть исчерпывающе понят через активность: «Пассивность есть приятие иных форм извне. Если бы не это приятие иных форм, пронизывающее собой свою противоположность – активность, – последняя перестала бы вообще соприкасаться с чем-либо инородным и замкнулась в своих собственных формах. Именно пассивность обогащает, активность же сама по себе лишь утверждает и упрочивает, структурирует внутри себя и распространяет вовне себя одни лишь внутренние, уже имевшиеся у вещи формы» [1, с. 168].
Итак, послушание дарует зоркость и свободу – нельзя не заметить, что философия ищет того же. Очень распространено именование монашества философией – есть философия на словах, но монашество совершает на деле то, чему учат греческие мудрецы. Хотя, пожалуй, есть более глубокая и сущностная близость. Предметное поле определения философии задано самим словом «философия» – как «любящее применение мудрости» (по формулировке В. Бибихина [5, с. 85]). С первых своих шагов в истории дело философии – различение того, что принадлежит нам как внешнее дополнительное благо (имение), и того, что есть мы сами (бытие). Знаменитое «Познай самого себя» относится к этой существенности «самого самое». Именно вхождение в пространство «самого самое» дарует самоочевидность и самодостоверность, искомых в последующей истории человеческой мысли. Это то неспящее бодрствующее состояние, о котором говорит и Декарт, и Паскаль, и Гёте. Однако вхождение в пространство «самого самое» болезненно, лишено усладительной непосредственности. Не случайно для первичного философского акта чаще всего употребляется метафора пробуждения от сна, спадения пелены мрака или даже философской смерти. У Сократа это так: «… вы, как люди, которых будят во время сна, ударите меня и с лёгкостью убьёте, послушавшись Анита, и тогда всю остальную вашу жизнь проведёте во сне» [12, с. 85]. Сложно отде- латься от чувства, что современное неприятие философии представителями практичной результативности исходит именно от непереносимости жалящих совесть укоров философии, не устающей напоминать нестареющие, хоть и старые доводы: «От смерти уйти нетрудно, о мужи, а вот что гораздо труднее – уйти от нравственной порчи, потому что она идёт скорее, чем смерть. И вот я, человек тихий и старый, настигнут тем, что идёт тише, а мои обвинители, люди сильные и проворные, – тем, что идёт проворнее, – нравственною порчею. И вот я, осуждённый вами, ухожу на смерть, а они, осуждённые истиною, уходят на зло и неправду» [12, с. 93]. После этих слов особенно отчётливо воспринимается тезис М. Хайдеггера о забвении бытия (то есть выдвижении на первый план «имения», а не «самого самое») в новоевропейской философии. Неужели то, о чём предупреждал Сократ, говоря, что защищается не ради себя, а ради тех, кто, осудив его на смерть, проглядят дар, который дарует бог от имени философии, произошло? Привлекательность суетливой озабоченности результативностью и полезностью никнет и бледнеет в свете направленности на «самое значительное» (Плотин), на поиски того средоточия, чему принадлежит всё остальное. В диалоге «Алкивиад ІІ» Платон устами Сократа формулирует это же так: «… обладание всевозможными знаниями без знания того, что является наилучшим, редко приносит пользу и, наоборот, большею частью вредит своему владельцу» [11, с. 133]. Не в бровь, а в глаз современному миру звучат слова: «… государства для своего благополучия, мой Алкивиад, не нуждаются ни в стенах, ни в триерах, ни в корабельных верфях, ни в многонаселённо-сти, ни в огромных размерах, если они лишены добродетели» [10, с. 264]. Итак, смысл и предназначение философии – делать не- что с самим человеком, открывая ему его особенное служение Богу. Уместно вспомнить предупреждение В. Бибихина, что не стоит доверяться карикатурному образу философа, который всё разъедает своими рассуждениями и для которого нет ничего святого. Благоговейный трепет и бережное хранение направлены в философии не на обслуживание хороших условий жизни, но на сохранение смысла жизни [5, с. 38]. Начало и цель философии – очищение.
Смыкание философии и аскетического подвижничества происходит именно в направленности на работу с «внутренним строем ума» (св. Антоний Великий). Похвальны пост и бдение, так как они упорядочивают помыслы, тонким делают ум и облегчают человеку приближение к Богу, заповедана нищета и презрение вещей земных, потому что через это ум становится спокойнее, чище и свободнее, благодатно милосердие как наследование Божией природе, но «царским прямым путём», охраняющим и от чрезмерного воздержания, и от нерадения, беспечности и разленения, есть добродетель рассуждения. «Рассуждение есть око души и её светильник, как глаз есть светильник тела <…> Рассуждением человек разбирает свои желания, слова и дела и отступает от всех тех, которые удаляют его от Бога. Рассуждением он расстраивает и уничтожает все направленные против него козни врага, верно различая, что хорошо и что худо» [6, с. 152–153]. Кормчий сердца – ум, «он впрягает колесницу души, сдерживая бразды помыслов, и устремляется против сатанинской колесницы» [6, с. 304]. Это не ум, «остающийся в голове», но сошедший в сердце. Анатомическое строение человека в данном случае искажает видение – как будто бы ум из верховного положения «опускается» в сердце. Было бы глубоким искажением считать сведение ума в сердце подчинением его эмоциям и чувствам. «Логика сердца», противопоставленная «логике ума», становится обоснованием предвзятости, но «пристрастие незорко, а отвращение слепо» (Исидор Пелусиот), в то время как сведение ума в сердце – основание осо- бой зоркости, зоркости не разделённых отдельных сил человека, но зоркость собранных в единый фокус всех устремлений человека. Здесь уместно вспомнить бытий-ственно-онтологическую направленность аскетики, её стремление к «превосхождению естества». Взаимное хранение ума и сердца направлено к хранению (или обретению) цельности человека, раскрытию образа, данного в его разуме и самовластии, в подобии Богу. Если аскетика называется христианскими подвижниками «наша философия», то в системе мирских научных знаний философия есть «мирская аскетика», желающая быть в миру, но быть свободной от всевластия мира.
Список литературы Философская эволюция Генриха Батищева: деятельность и аскеза как сущностные измерения практики я
- Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества / [вступ. ст. В. А. Лекторского, с. 5-20 ; послесл. B. Н. Шердакова]. Санкт-Петербург : Русский христианский гуманитарный институт, 1997. 463 с.
- Батищев Г. С. Деятельностная сущность человека как философский принцип // Проблема человека в современной философии / ред. коллегия : И. Ф. Балакина [и др.] ; АН СССР. Институт философии. Москва : Наука, 1969. С. 73-45.
- Батищев Г. С. Деятельностный подход в плену субстанциализма // Деятельность: теории, методология, проблемы : [сборник / сост. И. Т. Касавин]. Москва : Политиздат, 1990. С. 169-176.
- Батищев Г. С. Неисчерпанные возможности и границы применения категории деятельности // Деятельность: теории, методология, проблемы : [сборник / сост. И. Т. Касавин]. Москва : Политиздат, 1990. С. 21-34.
- Бибихин В. В. Язык философии. Москва : Прогресс, 1993. 416 с.
- Добротолюбие : [сборник переводов]. Том I. Москва : АНО «Развитие духовности, культуры и науки», 2004. 784 с.
- Зеньковский В. В., прот. История русской философии : в 2 томах. 2-е издание. Париж : УМСЛ-РЯБ88, 1989. Том 1. 470 с.
- Кьеркегор С. Страх и трепет : [этические трактаты] / [пер. с дат., коммент. Н. В. Исаевой, C. А. Исаева ; общ. ред., сост. и предисл. С. А. Исаева]. Москва : Республика, 1993. 382, [1] с. (Библиотека этической мысли).
- Лимонченко В. В. «Феноменология духа» Гегеля как способ реального духовного движения // Философия Гегеля: новые переводы, исследования, комментарии / под общ. ред. Е. В. Мареевой. Москва : Изд-во СГУ, 2014. С. 387-402.
- Платон. Алкивиад I // Собрание сочинений : в 4 томах / [общ. ред. А. Ф. Лосева и др. ; примеч. А. А. Тахо-Годи]. Москва : Мысль, 1990-1994. (Философское наследие : ФН). Том 112 : Том 1 / [пер. с древнегреческого Вл. С. Соловьёва и др.]. 1990. С. 220-268.
- Платон. Алкивиад II // Собрание сочинений : в 4 томах / [общ. ред. А. Ф. Лосева и др. ; примеч. А. А. Тахо-Годи]. Москва : Мысль, 1990-1994. (Философское наследие : ФН). Том 112 : Том 1 / [пер. с древнегреческого Вл. С. Соловьёва и др.]. 1990. С. 125-141.
- Платон. Апология Сократа // Собрание сочинений : в 4 томах / [общ. ред. А. Ф. Лосева и др. ; примеч. А. А. Тахо-Годи]. Москва : Мысль, 1990-1994. (Философское наследие : ФН). Том 112 : Том 1 / [пер. с древнегреческого Вл. С. Соловьёва и др.]. 1990. С. 70-96.
- Соловьёв В. С. Три речи в память Достоевского // Сочинения : в двух томах / [общ. ред. и сост. А. Ф. Лосева и А. В. Гулыги ; примеч. С. Л. Кравца и др.]. Москва : Мысль, 1988. Том 2. С. 289-323.
- Флоренский П. А. Иконостас // Сочинения : в 4 томах / [сост. и общ. ред. игумена Андроника (А. С. Трубачева) и др.]. Москва : Мысль, 1994-1999. (Философское наследие : ФН). Том 124 : Том 2. 1996. С. 419-526.
- Флоровский Г. Восточные отцы Церкви. Москва : АСТ, 2003. 633 с.
- Хамидов А. А. Философская одиссея Г. С. Батищева // Батищев Г. С. Избранные произведения / [под общей редакцией З. К. Шаукеновой] ; Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Алматы : Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2015. С. 6-44.
- Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. Москва : Издательство гуманитарной литературы, 1998. 352 с.