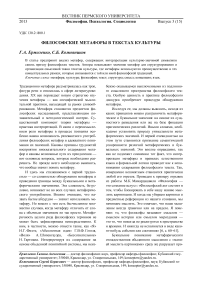Философские метафоры в текстах культуры
Автор: Ермоленко Галина Алексеевна, Кожевников Сергей Борисович
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (15), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринят анализ метафор, содержащих интерпретации культурно-значимой символики сквозь призму философских текстов. Авторы показывают значение метафор для структурирования и организации смысловой ткани текстов культуры, где метафоры используются преимущественно в тех концептуальных рамках, которые связываются с той или иной философской традицией.
Метафора, культура, философия, текст, структура, смысл, концепция, язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147202952
IDR: 147202952 | УДК: 130.2:
Текст научной статьи Философские метафоры в текстах культуры
Традиционно метафора рассматривалась как троп, фигура речи и относилась к сфере литературоведения. XX век порождает новую стратегию изучения метафоры — как специфической мыслительной практики, выходящей за рамки словообразования. Метафора становится предметом философских исследований, представляющим познавательный и методологический интерес. Существенный компонент теории метафоры — практика интерпретаций. В связи с переосмыслением роли метафоры в процессе познания особенно важна возможность релевантного употребления философских метафор и адекватного понимания их значений. Каковы причины трудностей восприятия иносказательного содержания метафор и каковы возможные пути их преодоления — вот основные вопросы, которые необходимо разрешить. Но прежде всего необходимо выяснить, что вообще значит понять метафору.
И здесь мы сталкиваемся с первой трудностью — со сложностью обнаружения метафоры и проведения границы между буквальными и метафорическими значениями. Эта сложность, безусловно, возникает не во всех случаях метафорического употребления. Вполне очевидно, что назвать бытие абсурдом — значит использовать метафору. Но вместе с тем есть бесчисленное множество случаев, когда метафору отличить от слова с обычным значением не так просто. Метафоричность целого ряда философских терминов не может быть зафиксирована непосредственно. К ним, в частности, можно отнести такие, как «Я» И.Г. Фихте, «Абсолютная идея» Г.В.Ф. Гегеля, «Воля» А. Шопенгауэра, «Бессознательное» Н. Гартмана. Интерпретируя их содержание на основе обыденной понятийной системы, мы неиз- бежно оказываемся выключенными из подлинного смыслового пространства философского текста. Особую ценность в практике философского дискурса приобретает процедура обнаружения метафоры.
Исследуя ее, мы должны выяснить, исходя из каких принципов можно разграничить метафорическое и буквальное значения: на основе их сущностного разведения или же на базе фиксации прагматических различий. Иными словами, необходимо установить природу уникальности метафорических значений. И первой очевидностью на этом пути становится признание семантической ускоренности различий метафорических и буквальных значений. Это вполне оправданно, так как не подлежит сомнению тот факт, что интерпретация метафоры в правилах естественного языка и формальной логики приводит нас к непониманию содержания философского текста. Так, совершенно непонятным становится практически любой его отрезок. Приведем к примеру отрывок из работы М.К. Мамардашвили «Философия — это сознание вслух»: «Философский акт состоит в том, чтобы блокировать в себе нашу манию мыслить картинками. И когда мы убираем картинки и предметные референции из нашего сознания, мы начинаем мыслить. Это означает, что наше мышление всегда гранично или на пределе. Я поясняю: то, что философы называют смыслом — смыслом истории или смыслом мироздания — это то, что никогда не реализуется в пространстве и времени. И никогда не исполняется в виде какого-нибудь события или состояния» [6, с. 60–61].
Буквальное понимание метафорического отождествления обыденного мышления с «манией мыслить картинками» сразу же разрушает про-
ясняющий эффект метафоры. Исчезает не только метафора, раскрывающая специфику философского мышления, но и последовательность философского повествования. Текст утрачивает свою семантическую целостность, теряет деятельный характер и застывает. Поэтому неизбежным для нас становится выделение метафоры из числа прочих употреблений языка философии. Но здесь возникает новый вопрос: если значение метафоры не тождественно буквальному значению, то как оно может быть проинтерпретировано? На признании различия значений метафорических и буквальных выражений строится трехфазная модель понимания метафоры, в соответствии с которой на первом этапе устанавливается буквальное значение выражения, на втором — это значение сопоставляется с контекстом. И на третьем начинается поиск метафорического значения [9, с. 166].
Эта модель предполагает, что понимание метафорических значений требует б о льших усилий, чем понимание буквальных выражений. Буквальные выражения считаются в ней внеконтексту-альными, хотя на практике мы часто убеждаемся в том, что и буквальная предикация не всегда поддается строгому описанию. Понимание ее так же зависит от контекста, как и понимание метафоры. К примеру, такой широко распространенный термин, как «структура», будучи используемым в самых разных науках, приобрел чрезмерную расплывчатость. В математике это представление о чем-то скрытом, внутреннем и в то же время представление о схеме, модели. В лингвистике он породил учение структурализма, им обозначают все лингвистические операции. В этнологии о нем говорят как о методе исследований. Тем самым отталкиваться в интерпретации метафоры от значений буквальных выражений — это все равно, что стремиться пояснять непонятное через не менее непонятное.
Так, Дж. Серль убедительно показал, что буквальное значение может быть установлено только на основе общефонового значения и зависит от определенных фактических представлений, находящихся в фоне и не входящих в буквальное значение. Эта фоновая информация и позволяет нам применять буквальные значения: «Тем самым даже в буквальных высказываниях, где значение говорящего совпадает со значением предложения, вклад говорящего в высказывание больше, чем просто семантическое содержание предложения: это семантическое содержание задает набор условий истинности только относительно набора предложений говорящего, и чтобы коммуникация была успешной, эти предложения должны разделяться слушающим» [8, с. 311].
Дж. Серль выделяет три свойства буквальных высказываний, которые необходимо учитывать при описании метафор. Во-первых, буквальное значение совпадает со значением высказывания говорящего: в буквальном высказывании говорящий имеет в виду то, что он говорит. Во-вторых, значение буквального выражения задается относительно набора фоновых предложений, которые не входят в семантическое содержание предложения. В-третьих, буквальные значения так же, как и метафорические, связаны с понятием сходства [8, с. 311]. Таким образом, очевидной становится невозможность полного отрицания семантического различия метафорических и буквальных значений. Нам удалось убедиться в том, что в семантическом отношении между метафорами и буквальными выражениями больше общего, чем различного. Между тем нами было также показано и то, что метафора не может быть проинтерпретирована исходя из формально-логического подхода, так как он не может фиксировать скрытый смысл высказывания.
Теоретически можно предположить два возможных пути решения сформулированной нами проблемы. Во-первых, отождествление метафоры с одним из видов буквальных выражений и, как следствие, интерпретация ее в соответствии с правилами естественного языка. Во-вторых, отказ от поиска адекватной в когнитивном отношении субституции метафоры. Допуская первое, можно предположить, что метафора представляет не обычное буквальное выражение, а его новое, «расширенное» значение [4, с. 176]. Причем это «расширение» в таком случае обозначает новую сущность, обладает прямой референцией к объекту. Но тогда, как замечает Д. Дэвидсон, «стирается разница между метафорой и введением в лексикон нового слова: объяснить таким образом метафору — значит уничтожить ее» [4, с. 176].
Метафоры действительно обогащают язык философии новыми терминами, но значения этих терминов не имеют устойчивых семантических характеристик. Зачастую в одном и том же тексте они могут быть разными. Так, в работе «Введение в философию» М.К. Мамардашвили называет «замкнутым кругом» возникающие трудности при изложении своего понимания философских проблем, замечая, что «делал непозволительные вещи для строгого разговора: сравнения, использовал метафоры, обыденные примеры и пр., потому что иначе я бы оказался в замкнутом кругу. Мне приходилось бы объяснять какие-то вещи, употребляя уже специальный язык философии, а он сам не объяснен, и поэтому был бы замкнутый логический круг» [5, с. 52]. И тут же слово «круг» он использует, раскрывая свое понимание бытия: бытие — «сфера, созданная вечным движением точки, — круг» [5, с. 53]; «сфера, центр которой нигде, а окружность везде», полнота бытия — «собирание себя вокруг какого-то центра» [5, с. 54]. В каждом из рассмотренных случаев значение нового термина, вводимого автором текста, совершенно различно. В первом примере термин «круг» означает неэффективную работу мысли, а во втором он призван обозначить бытие как атрибут индивидуального сознания.
Иначе интерпретируется новый термин с буквальным значением, введенный в философский текст. Так, Э. Гуссерль, описывая процесс феноменологической редукции, переход от естественной к феноменологической установке, использует термин «эпохе», который в его философии начинает означать воздержание от суждений о мире. Целесообразность введения нового термина обусловлена здесь осознанием недостатка языковых средств классической философии и необходимостью обозначения новой философской реальности, новой онтологической области, открытой Э. Гуссерлем. При этом термин «эпохе» сохраняется как устойчивое семантическое образование не только в текстах Э. Гуссерля, но и в работах его последователей. Открывая новый способ опыта, мышления, теоретизирования, он формулирует отказ философа от постановки вопросов о бытии, ценностях, красоте, пользе, добре и т.д. [3, с. 188].
Тем самым невозможность отождествления метафоры со словарным нововведением не подлежит сомнению. Метафора не может быть проинтерпретирована как разновидность буквального значения. Между тем очевидным это становится только в контексте новой теории референции. Восходящая же к эпохе античности метафизическая теория значения, считающая значение строго определенным отношением между языком и миром, обосновывает субституциональный взгляд на метафору. Согласно этой точке зрения метафора служит для передачи смысла, который мог бы быть выражен буквально. Использование ее вызвано недостатком традиционных терминов для выражения новых реалий или же стремлением найти краткий эквивалент буквальным значениям. Интерпретация метафоры в рамках этой теории уподобляется дешифровке, разгадыванию.
Субституциональный взгляд на метафору настолько укоренился, что продолжает оказывать влияние на современные представления о содержании метафорических высказываний. Так, на нем основывается определение метафоры, данное в эстетическом словаре. Оно утверждает, что метафора — это перенесение значений одного предмета на другой при осознании их различия. Но вместе с тем широкое распространение в современной науке новой теории референции, основанной на концепциях значений Г. Фреге и Б. Рассела, подвергает сомнению возможность адекватной в когнитивном отношении субституции метафоры. Значение метафоры признается принципиально отличным от значений буквальных выражений.
Очевидной становится невозможность окончательной и полной субституции метафоры. Это убедительно показал Д. Дэвидсон, отрицая конечность и пропозициональность содержания метафор: «На самом деле то, что представляет нашему вниманию метафора, не ограничено и не пропозиционально. Когда мы задаемся целью сказать, что “означает” метафора, то вскоре понимаем, что перечислению не может быть конца. Если кто-то водит пальцем по береговой линии на карте или любуется красотой и искусностью линии в рисунках Пикассо, то к чему именно привлечено его внимание? Можно было бы назвать бесконечное множество моментов, ибо идея полноты и исчерпанности к такому перечислению неприложима. Сколько же фактов или пропозиций передается фотографией или картиной: ни одного, бесконечное множество или один большой факт, который не поддается выражению? Это плохой вопрос. Картина не нуждается ни в тысяче слов, ни в любом другом их количестве. Между картиной и словом невозможен эквивалентный обмен» [4, с. 191].
Признание принципиального отличия метафорических значений от буквальных влечет за собой два важных вывода для нашего поиска средств реконструкции метафорических значений. Первый из них заключается в том, что значение метафоры не может быть перефразировано, подвергнуто формально-логическому объяснению. Второй приводит нас к мысли о том, что интерпретация не сводима к познанию некоторой истины или факта. Она не образует новой предметной области. Между тем известно, что метафора образует новое значение. Логично предположить, что оно должно опираться на прежнюю предметную область и на соответствующие ей значения. Ими же могут быть только буквальные значения. Вполне ясно, что полное исключение буквальных выражений из предложения приводит к созданию загадок и аллегорий, также уничтожающих эффект метафоры, как и передача ее смысла другими словами. Единственную возможность реконструировать значение метафоры в философском тексте предоставляет анализ буквальных значений, так как ничто, кроме них, не является в такой степени доступным нашему пониманию. Но тогда не вполне проясненным становится то, как нам при этом избежать простого перефразирования метафоры. Ведь это тоже влечет за собой потерю специфики ее содержания. Особый интерес для нас представляют идеи Д. Дэвидсона, который также строит свои размышления о путях реконструкции метафорических значений на основе анализа буквальных.
Д. Дэвидсон исходит из того, что метафоры означают только то, что означают входящие в них слова, взятые в своем буквальном значении. Но это не отрицает и тот факт, что метафора содержит в себе «изюминку». В противном случае, как он утверждает, значения стертых метафор (ставших частью языка) коренным образом не отличались бы от значений живых метафор. Но это отличие, бесспорно, существует, что позволяет предположить, что эффект метафоры заключается не в ее значении. Считая теорию метафорического значения заблуждением, Д. Дэвидсон идентифицирует скрытое содержание метафоры с тем воздействием, которое метафора на нас оказывает. Он утверждает, что нужно «делать упор на содержании мыслей, которые вызывает метафора, и вкладывать это содержание в саму метафору» [4, с. 189]. Он совершенно справедливо акцентирует внимание не на том, что означает метафора, а на том, как связана метафора с тем, что она заставляет нас увидеть: «Нам представляется, будто существует некоторое содержание, которое нужно “схватить”, в то время как речь идет о том, к чему метафора привлекает наше внимание» [4, с. 191].
Д. Дэвидсон приходит к выводу о том, что наши попытки буквально описать содержание метафоры просто обречены на провал. Метафору он целиком относит к сфере употребления и именно с ней связывает скрытый смысл метафоры: «Метафора, делая некоторое буквальное утверждение, заставляет нас увидеть один предмет как бы в свете другого, что и влечет за собой прозрение» [4, с. 192]. Более того, интерпретация метафорических выражений бессмысленна. Зачем интер- претировать то, что и так лежит на поверхности? Внимание исследователей должно быть привлечено к выявлению способа употребления метафорой буквальных значений. Между тем речь не идет об ограничении метафорой содержания буквальных выражений. Значение метафоры вообще не описывает какой-либо факт, оно лишь способствует его адекватному восприятию: «Полагать, что метафора достигнет своей цели только путем передачи закодированного сообщения, — это все равно что думать, что поднаторевший интерпретатор может передавать прозой смысл шутки или фантазии. Шутка, фантазия, метафора могут, подобно изображению или удару по голове, помочь оценить некоторый факт и даже не передают его содержания» [4, с. 190].
Д. Дэвидсон тем самым вполне справедливо исключает из процедуры понимания метафор необходимость поиска адекватных им в когнитивном отношении субституций. Теорию интерпретации он ориентирует на исследование прагматических аспектов значения метафоры. В целесообразности такой переориентации легко убедиться. Возьмем, к примеру, насыщенное метафорами предложение из текста Г. Риккерта «Философия жизни». Так, автор пишет: «В мышлении и философствовании мы будем с любовью заглядывать в очи жизни, ища сверкающего в них “золота”, и будем хранить его, поскольку это совместимо вообще с мышлением» [7, с. 332]. Попробуем заменить все метафорические выражения буквальными и проследить, как от этого будет меняться содержание текста. Исключая метафоры, предложение Г. Риккерта можно воспроизвести следующим образом: «В своем мышлении и философствовании мы будем учитывать антропологические проблемы, так как они тоже имеют философскую природу». Тем самым метафора «заглядывать в очи жизни» может быть перефразирована только как «учитывать антропологические проблемы», а метафора «хранить сверкающее “золото”» — как «иметь философскую природу».
Очевидной становится несоизмеримость содержания метафор и их буквальных эквивалентов. Перефразируя метафоры, мы все-таки не можем понять, почему Г. Риккерт считает проблемы жизни философскими. Приписывая метафорам строгие значения, мы не только получаем неполное представление о сути философского высказывания, но и в конечном счете — неправильное представление. За пределами нашего внимания остается самое главное — то, как сам автор оценивает его достоверность, и мы оказываемся вы- нужденными приписывать свою оценку, так как всякое понимание — прежде всего акт оценки. Учитывая оценочную компоненту метафоры, попытаемся выявить те смысловые акценты, которые расставляет сам автор. Так, в метафорическом употреблении Г. Риккертом слова «любовь» по отношению к антропологическим проблемам чувствуется его вера в их философские перспективы, индивидуальное принятие и восторженное отношение. Метафора «заглядывать в очи жизни» указывает на то, что Г. Риккерт считает необходимым исследовать не все, что связано с жизнью человека, а только наиболее существенное. И вместе с тем она акцентирует внимание на возможности продуцировать при решении антропологических проблем достоверные философские суждения. В метафоре «сверкающее “золото”» Г. Риккерт демонстрирует свое отношение к результатам анализа проблем жизни как к имеющим непреходящую философскую ценность. И в то же время он показывает их очевидность, заметность, легкость обнаружения. Метафорическое употребление слова «хранить» говорит о намерениях автора избрать эффективную методологию для анализа антропологических проблем.
Сводя интерпретируемое предложение к простейшим вопросам и давая на них ответы с помощью тех акцентов, которые расставляют в философском тексте метафоры, мы можем разрешить поставленную нами изначально проблему. Обнаруженные нами причины необходимости философского анализа проблем жизни заключаются в следующем. Во-первых, анализ проблем жизни может быть проведен на базе специальных методологических принципов и завершиться вынесением достоверных суждений. Во-вторых, объектом этого анализа является то, что наиболее ценно, существенно. И, в-третьих, расширяя традиционный объект философии за счет включения в него того, что кажется очевидным, проблемы жизни вносят дополнительные когнитивные перспективы в философское познание.
Таким образом, на примере конкретного предложения мы убедились в неэффективности интерпретации метафоры по аналогии с буквальными выражениями. От этого, как было нами показано, страдает как понимание всего философского текста, так и непосредственно связанное с ним понимание метафоры . Нами было продемонстрировано и то, что значение метафоры не имеет специфического объекта описания, его роль сводится к расстановке акцентов и даче оценок. Относя эффект метафоры исключительно к сфере употребления, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о том, что представляет собой эта сфера. И здесь важными для нашего исследования оказываются идеи М. Блэка. Формулируя интерак-ционистскую точку зрения на эту проблему, М. Блэк называет окружение метафоры «рамкой». «Рамка» метафоры обозначает то, что способствует правильному пониманию «фокуса» метафоры, ее скрытого смысла. А это те особые обстоятельства, в которых возникает метафора: интонация, словесное окружение, исторический фон и т.п. В «рамку» метафоры входит и оценка автора. Но вместе с тем невозможно унифицировать определение степени весомости метафоры. Стандартных правил взаимодействия «рамки» и «фокуса» метафоры не существует. М. Блэк утверждает, что для того, «чтобы понять, что имеет в виду говорящий, нам надо знать, насколько “серьезно” он относится к фокусу метафоры. (Довольствуется ли он приблизительным синонимом или выбирает именно это слово, которое и является единственно возможным? Должны ли мы воспринимать это слово как само собой разумеющееся и обращать внимание только на его наиболее общие импликации — или же мы должны более подробно остановиться на его не столь очевидных ассоциациях?) В живой речи большую помощь нам могут оказать эмфаза и интонация. Но в письменном или в печатном тексте нет даже этих минимальных показателей» [1, с. 157].
Какие же средства могут быть нами использованы для реконструкции значений метафор в философских текстах? С точки зрения интерак-ционистской теории для понимания метафоры необходимо владеть системой общепринятых ассоциаций, которую актуализирует та или иная метафора. Процедуру этой актуализации М. Блэк сравнивает с наблюдением за ночным небом через закопченное стекло: «Предположим, что я смотрю на ночное небо через закопченное стекло, на котором в некоторых местах прорисованы чистые линии. Тогда я буду видеть только те звезды, которые лежат на этих линиях, а картину звездного неба можно будет рассматривать как организованную системой этих линий. Нельзя ли считать метафору таким же стеклом, а систему общепринятых ассоциаций фокусного слова — сетью прочерченных линий?» [1, с. 165]. «Систему общепринятых ассоциаций» М. Блэк называет контекстом, от которого и зависит значение метафоры.
Определяющая роль контекста в процессе интерпретации метафоры была замечена еще в раннем Средневековье, и сейчас она уже общее место в герменевтической традиции. Однако на фоне этой, казалось бы, тотальной изученности непонятным остается самое главное — каковы необходимые для интерпретации метафоры границы контекста. В философском тексте эти границы не могут заканчиваться на «системе общепринятых ассоциаций». Границы понимания устанавливаются самим текстом. Малейшие же изменения его структуры влекут за собой переосмысление метафоры, а зачастую — даже утрату ее скрытого смысла. И в этом легко убедиться на примере классического для философии термина «идея».
В платоновских диалогах он, как известно, имеет метафорическое значение. В буквальном смысле он обозначал то, что видимо: ту изменчивую реальность, которая открыта глазу. В контексте же диалогов Платона он указывает на зримость незримого, на то, что разуму становятся открытыми по своей природе незримые сущности и ум видит их отчетливее глаза. Интересны для нас и те метаморфозы, которые претерпевает термин «идея» в современных философских текстах. Известно, что, став классическим термином, он приобрел устойчивое содержание. Его метафоричность стерлась, но последнее не помешало ему участвовать в современных словообразовательных процессах языка философии. Так, на почве термина «идея» возникают не только новые термины (идеология, идеализм, идейность, идеализация, идеал), но и новые метафоры. Их образование протекает в пространстве новых текстов. Так, содержание метафоры «эйдетическая память», обозначающее память, лежащую в основе всякого образного мышления, становится понятным при чтении конкретного текста, в данном случае — работы Л.С. Выготского и А.Р. Лурии «Этюды по истории поведения».
Для понимания метафоры оказывается недостаточным знания словарных значений образующих ее буквальных выражений. Необходимо понять философскую мысль, прочесть весь текст. Метафора не может быть проинтерпретирована внутри ограниченного контекста, так как она не имеет эмпирического научного смысла. Смысл метафоры определяется мыслью автора философского текста. В одном тексте метафорическое выражение, употребляясь сотни и даже тысячи раз, все равно останется метафорой, тогда как в другом оно может быть воспринято сразу же как буквальное.
Метафора возникает всякий раз заново в каждом новом тексте. Но в то же время ее содержание мы не можем свести и к проявлению необуз- данной хаотичности мысли. Будучи элементом текста, метафора подчиняется организационной структуре текста, его внутренней логике. И учредителем этой логики является не только сам автор текста. За каждым текстом стоит система языка, единое знаковое пространство, в пределах которого происходит смыслотворчество автора и интерпретатора. Текст как создается, так и истолковывается с учетом терминологического употребления слов, так как всякое слово в нем уже предполагает определенное значение. Поэтому, чтобы понять значение метафоры философского текста, нужно прежде всего установить значения употребляемых в философском тексте терминов. И в этом смысле на содержание метафоры оказывают влияние буквальные значения. Они выступают как семантический контекст метафорического выражения. В качестве примера приведем отрывок из текста Э. Гуссерля «Картезиансткие размышления»: «В противоположность Декарту, мы углубимся в разрешение задачи по раскрытию бесконечного поля трансцендентального опыта. Декартова очевидность, очевидность положения “ego cogito, ergo sum”, не приносит плода, поскольку он пренебрег не только прояснением чистого методического смысла трансцендентального эпохе, но и вниманием к тому, что ego само может до бесконечности систематически истолковывать себя посредством трансцендентального опыта » [3, с. 93].
Вполне очевидно, что для понимания метафоры Э. Гуссерля «трансцендентальный опыт — бесконечное поле» необходимо прежде всего выяснить значение термина «трансцендентальный опыт», а для понимания метафорического указания Э. Гуссерля на бесплодность «очевидности Декарта» требуется знать не только, что и почему казалось Декарту очевидным, но и то, как это было переосмыслено Э. Гуссерлем в контексте его феноменологиии. Поэтому контекстом, в котором мы интерпретируем метафору, становится сама философская традиция. Наше владение философской лексикой оказывается невозможным без ощущения принадлежности к традиции, без ощущения того, что мы не только говорим, но и мыслим по ее правилам.
С деятельностью разума Х.-Г. Гадамер связывает и роль традиции в нашем познании. Снимая противоположность между историей и знанием о ней, Х.-Г. Гадамер приходит к выводу о том, что включение традиции в процедуру познания может быть плодотворно для герменевтики: «Правильнее будет мыслить историческое сознание не как нечто радикально новое — чем оно кажется на первый взгляд — но как новый момент в рамках изначального человеческого отношения к прошлому. Следует, другими словами, признать в нашем отношении к истории момент традиции и поставить вопрос о его плодотворности для герменевтики» [2, с. 336].
Естественно предположить, что, оказывая влияние на познание в целом, традиция во многом определяет и значения метафор. И в этом плане метафору тоже правильнее было бы мыслить не как нечто радикально новое, а как феномен, содержание которого имеет историкокультурные координаты. Ведь вполне очевидно, что в текстах, принадлежащих к иным философским традициям, один и тот же термин может иметь разные смыслы. В одну эпоху он может употребляться в буквальном значении, в другую — в метафорическом, что делает его совершенно непонятным без учета его принадлежности к той или иной философской традиции.
Это, в частности, относится к термину «симу-лакр». Генетически связанный в классической эстетике с теорией мимесиса, он на протяжении столетий означал подобие действительности как результат подражания ей, был одним из синонимов художественного образа. Но уже в эпоху нового времени термин «симулакр» приобретает метафорическое значение. Он начинает связываться с игрой, подменой действительности. Но на этом исторические метаморфозы термина не заканчиваются. Его новая, современная жизнь начинается в 80-е гг. ХХ в. в контексте эстетики постмодернизма. Термин «симулакр» вообще утрачивает в ней свое прежнее миметическое значение. Став одним из ключевых понятий постмо- дернистской эстетики, он символизирует нечто противоположное — конец подражания, рефе-ренциальности. Значение термина «симулакр» изменяется вплоть до своей противоположности: если в классической эстетике оно было связано с подобием реальности, то в современной оно полностью утрачивает этот смысловой оттенок и сводится к пустой форме, видимости, правдоподобному подобию. В этом значении его употребляет Г. Беме: «Эстетизация реальности началась давно, тогда, когда начали включать в эстетику воображение, внешний вид, сферу симулакра (der Simulakra — видимость), что в конечном счете привело к вытеснению реальности» [10, S. 13].
Таким образом, важнейшей задачей становится определение той философской традиции, к которой принадлежит текст, а следовательно, и метафорическое выражение. И здесь нас прежде всего интересует обнаружение тех философских теорий, которые оказали влияние на формирование философского текста, той концепции истины, в рамках которой осуществлялся подбор средств аргументации. Так, изменения содержания термина «симулакр» могут быть зафиксированы на основе разграничения принципов античной и постмодернистской эстетики. Но вполне понятно и то, что философская традиция не должна объяснить все факты, встречающиеся на ее пути. Ее назначение мы видим только в том, чтобы очертить наиболее общие границы того контекста, в котором происходит формирование значений метафорических выражений.
Список литературы Философские метафоры в текстах культуры
- Блэк М. Метафора//Теория метафоры/под ред. Н.Д. Арутюновой. М.: Прогресс, 1990. С. 153-173
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. 700 с
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология//Философия как строгая наука. Новочеркасск: САГУНА, 1994. 353 с
- Дэвидстон Д. Что означают метафоры//Теория метафоры/под ред. Н.Д. Арутюновой. М.: Прогресс, 1990. С. 173-193
- Мамардашвили М.К. Необходимость себя. М.: Лабиринт, 1996. 430 с
- Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992. 189 с
- Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998. 411 с
- Серль Дж. Метафора//Теории метафоры/под ред. Н.Д. Арутюновой. М.: Прогресс, 1990. С. 307-341
- Философские основания научной теории. Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 1985. 220 с
- Bohme G. Atmosphare. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995. 203 S