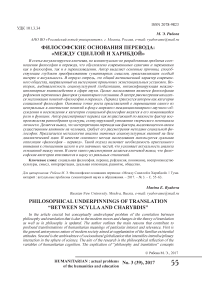Философские основания перевода: "Между Сциллой и Харибдой"
Автор: Рябова Марина Эдуардовна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (39), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье обновляется важнейшая, но концептуально неразвитая проблема корреляции между философией и переводом, которая обусловлена современными движениями и изменениями в теории перевода, а также в философии. Автор излагает основные причины, которые способствуют глубоким преобразованиям гуманитарных значений, представляющих особый интерес и актуальность. Во-первых, это общий антонимный характер современного общества, направленный на вытеснение знакомых экзистенциальных взглядов. Во-вторых, амбивалентность социокультурной глобализации, которая усиливает междисциплинарное взаимодействие в сфере науки. Целью исследования является философское отражение переменных гуманитарного познания. В центре внимания находится экспликация понятий «философия и перевод». Перевод интерпретируется автором как категория социальной философии. Ключевые моменты эволюционного роста идей о переносе понятия «перевод» в центр широкой междисциплинарной научной дискуссии и восхождения к категории социальной философии можно увидеть в измененной роли и функции перевода. Перевод рассматривается как все более важный фактор в воспроизводстве разнообразия культуры, стимулируя рост творческого потенциала личности. Перевод рассматривается как фактор, который превосходит его значительное влияние на общество в целом, которое требует его рассмотрения с помощью социальной философии. Предложена методология анализа значимых социокультурных явлений на основе диалектической идеи. В качестве основного метода исследования используется двойная оппозиция «Философия - Перевод». Этот подход включает в себя необходимость пристального внимания к взаимосвязи между целым и его важными частями, что повышает актуальность их анализа отношений. В свете этого рассмотрения доказано, что философские категории втягиваются в науку из реальных отношений.
Социальная философия, перевод, рефлексия, понимание, воспроизводство культуры, смысл, интерпретация, дуальная оппозиция, развитие, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/14721022
IDR: 14721022 | УДК: 101.3.34
Текст научной статьи Философские основания перевода: "Между Сциллой и Харибдой"
Сегодняшнее коммуникационное общество создало предпосылки для качественных изменений во всевозможных сферах деятельности человека. Задача быть на волне своего времени становится приоритетной во всех профессиональных отраслях, решение которой обеспечивается получением разнообразной информации из любого уголка мира. Оптимальное владение ею и эффективное оперирование составляют ведущий потенциал социума, что актуализирует проблему преодоления языкового барьера и выводит ее за рамки только лингвистических наук. В современном гуманитарном дискурсе переводческая проблематика все активнее перемещается в центр широкого междисциплинарного научного обсуждения. Общий контекст такого внимания составляет философия, фокусирующая дискуссии в область смысла, обозначенную еще К. Леви-Строссом как «образа мышления» и «манеры изложения мыслей» [7, с. 6]. Продолжая мысль К. Леви-Стросса, добавлю, что любой образ мышления любого народа неразрывно соотносится с современной социальной реальностью и, эксплицируясь через язык, через разнообразие языков, звучит как нарастающий вызов переводу.
Исторический опыт показывает, что философия многим обязана переводу (с греческого на латынь, с латыни на национальные языки: Декарт, Гоббс, Лейбниц и т. д.). Н. С. Автономова трактует перевод как особого рода познание, инструмент формирования философских понятий [1, с. 12]. «Для того, чтобы философия могла возникнуть, каждый раз нужны, помимо определенных социальных условий, внутреннее побуждение, тяготение, определенное направление умствования и, разумеется, та интенсивная работа претворения чужого в свое, которая и находит свое наиболее яркое выражение в переводе» [1, с. 7]. Разделяя высказанную позицию, следует обратить внимание, что хотя перевод составляет важную часть мыслительного пространства философии, однако указанная проблематика ни в пере-водоведении, ни в философии не разработана на должном уровне. Впрочем, это вполне понятно и может быть объяснено тем, что само переводоведение признается молодой наукой, возникновение которой больше принято связывать с развитием прикладной лингвистики [15].
Очевидно, что тема взаимосвязей между философией и переводом маркирована произошедшими сдвигами и переменами как в обществе, так и в философии. Осмысление этих изменений, в той или иной форме влияющих на формирование личности, и составляет основную задачу данной статьи.
Материалы и методы
Поиск наилучшего решения при снятии когнитивных трудностей в понимании иноязычной информации обусловливает необходимость обращения к философским основаниям перевода в канве современной социокультурной реальности, предполагая разносторонний анализ философских и переводческих взаимосвязей в методологическом пространстве «между Сциллой и Харибдой». Выдвижение метода дуальной оппозиции в качестве ведущего в исследовании несет в себе мировоззренческую значимость. Специфика обоих полюсов может быть охарактеризована как базис, материя для бытия, и одновременно как образ для мысли. Налицо внутренне противоречивый процесс, который перерастает в диалог в результате усиления социокультурного многообразия. Исходная пара оппозиции «Сцилла ‒ Харибда» представлена многозначностью интерпретаций не только каждой из названных сторон, но и собственно отношением между философией и переводом.
Философское осмысление перевода осуществлялось в герменевтическом аспекте (теория понимания и интерпретации), с позиций теории познания, философии коммуникации и многих других направлений, опирающихся, в первую очередь, на психолингвистические и культурологические данные. Вместе с тем в современной научной мысли наметилась собственно философия перевода, рефлектирующая эти философские подходы, проясняя метафорическую оппозицию «Сцилла ‒ Харибда», за которой стоят философия и перевод. Такой методологический подход схватывает диалектическую связь между философией и переводом, так как артикулирует условия его возможности существования. А. Ахие-зер подчеркивает: «Конкретизация сферы Между исходной дуальной оппозиции – основа нахождения новых, более содержательных смыслов в процессе освоения усложняющегося мира» [3, с. 411]. Одним из таких смыслов является вывод, что актуализация переводческой проблематики возникает в кризисные моменты общества как реакция национальных культур на парадиг-мальные социокультурные сдвиги.
Впервые на сопряженность перевода и национального языка в историческом контексте указал Ж. Деррида [5, с. 114–133], однако эта тема оказалась детально не разработанной. Здесь важно отметить, что связка национального языка и перевода возникает не случайно, а реализуется в языковом взаимодействии. Мысль Ж. Дерриды направлена на проблему личной идентичности, выражающейся в языке и определяющейся через язык. Продолжая идею Ж. Дерриды о языковой идентичности, накладывая ее на современную ситуацию сближения культур, следует отметить статику монолингвизма и динамику многоязычия.
Языковая онтология перевода определена некоторыми внутренними причинами: механистической формой деятельности и творческой активностью субъекта производить новое, ведущее к качественному прорыву в социокультурной сфере, которая может рассматриваться фундаментом в развитии личности и всего общества. Эти основания настолько сложно переплетены, что четко разделить их невозможно. «Полноценно функционировать в информационном усложняющемся обществе сможет лишь человек, достигший высокого уровня творчества, обладающий такими качествами, как инициативность, ответственность, способность самостоятельно выйти за пределы ранее усвоенной культуры, информации, сделать правильный выбор, принять позитивное решение» [11, с. 51].
Задаваясь вопросом о сущности перевода, опущу в рамках данной статьи многочисленные его дефиниции, а лишь отмечу, что трактовка перевода только в качестве технического процесса передачи смысла с одного языка на другой определенно его упрощает, примитивизирует. Две линии понимания перевода – чисто утилитарное решение повседневных задач, например для адекватности понимания в бытовых ситуациях, – с одной стороны, и потенциальная эвристичность творчества – с другой, ‒ ведут к пониманию перевода глубочайшим неоднозначным креативным процессом, важнейшей формой познания социокультурной действительности через интерпретации заложенного смысла. Тем самым, лавируя между узким и широким истолкованием перевода, следует признать его двойственность, где одна сторона представляет собой обобщающее творчество, а другая ‒ ремесленный повтор. Привлечение категории интерпретации при рассмотрении перевода в широком смысле качественно усиливает его предметную область. Обозначенная двойственность перевода в самом общем виде репрезентирует лингвистическую точку зрения. В отличие от нее постановка проблемы перевода в философской артикуляции не касается техники перевода, а подразумевает перевод как эмерджентный социокультурный феномен, погружающий субстанциональную сущность «Сциллы ‒ Харибды» в знакомую диалектическую схему «часть – целое». Ее полюса функционируют по общим друг для друга законам, хотя каждый в своей, имманентной ему форме, занимает определенную нишу в общественной практике, играя свою значимую роль в эволюционном движении социальной реальности. Опираясь на гипотезу Сепира и Уорфа, хотя и не разделяя ее полностью, провозгласившую, что структура мышления определяется структурой языка, следует признать наличие разных уровней перевода, где язык выступает средством ин- терпретации. Сказанное со всей очевидностью подводит к выводу, что не существует точного соответствия, взаимозаменяемости при переводе с одного языка на другой. В связи с этим У. Куайн выдвинул сентенцию о неопределенности любого перевода, что объясняется другим способом структурирования объективной реальности и вариативностью возможностей ее репрезентации [6]. Поэтому постижение поля несовпадения (непонимания априори) языка и культуры наполняет их новыми смыслами и расширяет интерпретациями ценностей, хотя и поднимает проблему адекватности восприятия и понимания.
Результаты и обсуждение
Перевод не только способ трансляции иноязычного смысла. В равной степени он есть средство легитимации новых феноменов, черпаемых из чужой культуры. Соприкосновение с другой культурой происходит по модели «принимаю ‒ отвергаю». В процессе такой активности совершается «осознание своей культуры как одной из многих, отдельной, особенной» [12, с. 49]. Приведенная цитата фактически объясняет механизм становления личности. Широкий спектр компонентов для сравнения приводит к осознанию несхожести видения мира, что потенциально содержит в себе ситуацию конфликта. Как известно, конфликт есть форма противоречия, разрешение которого выступает ключевым источником движения. Проникая в глубинный пласт смысла иноязычного текста, автором которого является носитель чужой культуры, человек пропускает его через себя, преодолевает устоявшиеся представления о социальной реальности. Проиллюстрируем сказанное: Rosen finde ich auch süss. – Розы я тоже считаю красивыми. В приведенном примере прилагательное süss выполняет эмоционально-оценочную функцию, передать которую при переводе является первоочередной задачей, в связи с чем оценочная информация, буквально переводимая как
«сладкий», заменяется на более близкую в языке перевода «красивый».
Разрешение противоречия между воззрениями разных культур связано с саморазвитием личности, с одной стороны, и взаимообогащением культур ‒ с другой. Для понимания этого явления полезен следующий пример, заимствованный у ТерМинасовой [12, с. 29–30]. Она описывает диалог англичанки и официантки в немецком городе Бамберг. Официантка не могла понять, какой именно чай заказывает англичанка, которая просила обычный чай. Постоянно переспрашивая и доведя ее до раздражения, официантка, наконец, выяснила суть заказа. Проблема заключалась в том, что black tea для англичан противопоставляется не зеленому чаю, а означает чай с молоком. Обычно принятый чай для англичан – это чай с молоком – и мысль, что в Германии норма (обычный чай) не ассоциируется с молоком, англичанке не приходила в голову.
Перевод в философской постановке вопроса не сводится лишь к преодолению иноязычной чужеродности, а подразумевает снятие экстралингвистической инаково-сти мировоззрения. Другой способ мышления, или иноязычие [10], есть не просто единица коммуникации, где перевод выступает способом передачи информации, а один из ключевых механизмов личностного роста, движущая сила развития общества. Исключительная важность перевода, тесно соприкасающегося с философскими категориями мышления и интерпретации смысла, заключается в расширении границ логики различных культурных общностей. Однако замечать взаимосвязь между логикой ина-ковых культур и понимать ее закономерности ‒ не одно и тоже. Сказанное подтверждается эмпирическими кросс-культурными психологическими исследованиями. Экспериментальные данные Г. С. Триандиса показали, как и почему культурные различия в базовых установках влияют на социальное поведение человека, его сознание, чувства и действия. В частности, он приводит пример с корпорацией «Дженерал моторс», которая занялась продажей автомобилей марки «Нова» в Латинскую Америку, упустив из внимания, что «Но Ва» означает для латино-американцев ‒ «не ездит». Выбор имени с негативной коннотацией для автомобиля в Латинской Америке привел к миллионным убыткам корпорации [13, с. 354]. Урок, который следует извлечь из этого примера состоит в том, что при взаимодействии с представителями других культур следует не просто ставить себя на место другого, а учитывать различия в языках и образах сознания. Как известно, культуры могут настолько отличаться друг от друга, что действие, считающееся неэтичным в одном этносе, может оказаться вполне естественным делом в другом. Сказанное наглядно пояснит еще одна заимствованная у Г. С. Триандиса ситуация с английским бизнесменом, который был приглашен на прием в Лиму (Перу). В момент звучания музыки он попытался пригласить соседку на танец, но получил отказ. Мотивом отказа были два аргумента: 1) звучала не танцевальная музыка, а национальный гимн страны, и 2) соседка оказалась не «мадам», а епископом Лимы [13, с. 321]. Использование собственной культуры в качестве основы в восприятии другой культуры ведет к ошибкам идентичности.
Итак, отсутствие изоморфных характеристик в языках может вызывать трудности интерпретации культурной специфики. Инновационные работы в психологии позволяют высказать суждения, что сам интерес к проблеме разнообразия означает признание ценности различий между представителями этнических культур и необходимость развития новых способов мышления. Японский психолог Д. Мацумото соотносит усвоение особенностей чужих обычаев и традиций с культурными фильтрами, которые служат контекстуальным фундаментом меж- личностных взаимоотношений. Ученый формулирует иерархию культурных сред, обладающих как гибкой (толерантной), так и негибкой (конфликтной) сущностью, которые с психолингвистической точки зрения задают комбинации действий людей с различными культурными предпосылками [9, с. 129]. Важный предварительный вывод в контексте проблематики данной статьи заключается в том, что поле деятельности иноязычия потенциально опасно расколом, опасным для общества. Современная наука и философия отвечают на это исследованиями, посвященными проблемам возрастающего риска, которые несет сама человеческая деятельность. Выходит значительное количество работ, отражающих эту проблематику [4; 14; 17]. В свете этих работ не требуется доказательств, что широко понимаемое иноязычие свидетельствует о выходящих за рамки знаковости обстоятельствах, дифференцирующих общество, раскалывающих его на какие-то группы, сообщества, процессы, сталкивающие и в потенции разрушающие друг друга. За этим следует искать некоторую глубокую социокультурную причину, детерминированную этнической психологией адекватного/иска-женного восприятия. Отсюда правомерна гипотеза, что в основе иноязычия лежит возможность рассмотрения общества как системы значимых знаковых различий, несущей в себе вероятность логических катастроф и всяческого рода опасностей.
Осознание «чужеродности», влияющей на качественные изменения личности, наращивает проблемность общества, его противоречивость. Проблема видится не в том, что существует много разных языков, но в том, что ситуация иноязычия динамично меняется, усложняется. Переход от одного языка к другому порождает видоизмененные значения и, увеличивая семантическую нагрузку на личность, развивает новые формы логики. Соотнесение различных картин мира, структур мышления требует напряжения сознания при переходе от уровня одной области смыслов к уровню другой области. «Изучаемый наукой реальный мир един, но в то же время не гомогенен и существуют разные уровни (или типы) реальности, связанные друг с другом, но друг к другу не сводимые», – подчеркивает В. А. Лекторский [8, с. 6]. Допущение о соприкосновении разноструктурных семантических систем позволяет помыслить некоторую дистанцию, зазор между ними, который снимается благодаря переводу. Однако испытание «чужим» не приводит к абсолютному совпадению результатов движения от целого к частям и наоборот. Возможно лишь приближенное решение, так как между ними неизбежен зазор. Преодоление языковых и культурных барьеров придает переводу важную роль в когнитивных процессах познающего внешний мир человека. Перевод в качестве способа связи с чужим есть интерпретация смыслов, лаборатория инноваций в философском смысле. Интерпретация разворачивается посредством принятия роли другого, реконструируя уникальные особенности каждого конкретного случая. Диалектический характер перевода-интерпретации отличает его от перевода-ремесла. Суть перевода-ремесла заключается в восприятии его как некоторой отрасли практической деятельности, целью которой является решение утилитарных задач. Возведение перевода на уровень интерпретации, поднимает его до интеллектуального творчества, своего рода искусства, неизмеримо более широкого, чем перевод-ремесло.
Полярные толкования перевода отразились в существовании двух крайних по отношению друг к другу направлений в теории перевода, берущих начало еще с античности. Оба типа перевода (перевод-ремесло и перевод-интерпретация) зарождаются практически одновременно и идут параллельно по жизни, обогащая переводческую традицию, постепенно меняя роль и статус переводчика. Например, отсутствие изоморфизма между разными языками сопряжено с переводческим дуализмом, проявляющимся в оппозиции буквального и свободного перевода. Иллюстрацией сказанному служит возникновение понятия «верный переводчик», подтекст употребления которого обладает негативной коннотацией. Метод «слово в слово» сфокусирован на дословной передаче исходного текста на язык перевода, что вызывало его критическую оценку в противовес творческому воспроизведению смысла и сюжета оригинала. Широко известен также афоризм «предатель перелагатель», достаточно ясно эксплицирующий отношение к переводческому методу передачи лишь смысла исходного текста, не сохраняющего форму. Несхожесть каждой из сторон реализуется в принципиально различном подходе к восприятию и передаче смысла переводимого. Например, предложение Hab ich Sie gebeten, mich zu operieren? можно перевести: 1) Просил я вас меня оперировать? 2) Разве я просил мне операцию делать? Нетрудно заметить, что смысл немецкого предложения передан в обоих переводах, но стратегия его прочтения и подачи разная.
Одним из первых, кто подметил и научно обосновал этот переводческий дуализм, был Ф. Шлейермахер [16]. В 1990-х гг. к этой теме вновь обращается Л. Венути, вводя новые обозначения разных типов перевода [18, с. 240–244]. Буквальный перевод он называет осваивающим, а отступающий от слов и формы оригинала именует отчуждающим. Предложенные термины емко характеризуют цели каждого из методов и в некотором роде «примиряют» их друг с другом. Не ставя задачей разбор плюсов и минусов этих подходов к переводу, отмечу, что каждый из них ангажирован солидным количеством сторонников, как и оппонентов, и достаточно тесно взаимосвязан с другим. Я бы сказала, что один есть частный случай второго. Очевидно одно, несмотря на амбивалентность обоих методов, перевод-интерпретация со всей определенностью доминирует.
Бытие перевода эксплицируется в логическом пространстве между разнообразием возможных вариантов интеллектуального творчества в сфере интенсивного взаимодействия разных культур и рефлектирует как социальная проблема, схватывающая человеческое существование. В процессе перевода человек поднимается на ступень мышления. Тем самым двойственность перевода содержит намек на социально-философскую проблему, требующую отдельного рассмотрения.
Философская рефлексия перевода в мультиязычном пространстве выводит к механизмам самореференции личности. В процессе перевода каждый человек, принимая вызов времени и ситуации, делает шаг в интеллектуальном развитии, повышает свой уровень способностей и эмоциональной тонкости. Как полагал А. Ахиезер, «способности субъекта есть его реализуемая потребность и возможность выходить за рамки собственного «Я», сложившегося содержания культуры и отношений, для выхода на более эффективный уровень воспроизводственной деятельности» [2, с. 129]. Тем самым перевод даже в узком понимании, как перевод-ремесло, представляет собой сложный феномен, не ограничивающийся переложением смысла с одного языка на уровне слова, а есть эволюция разума, так как изучая новый язык, постигаешь новую ментальность, осваивая другую картину мира, осуществляешь прорыв в мышлении через разнообразие культур и восприятие чужого образа языкового сознания. Есть много свидетельств (У. Ламберт, Э. Пол и др.) тому, что когнитивная гибкость и креативность коррелируют с сохранением индекса интеллекта.
Модель отношений философии и перевода можно рассматривать, с одной стороны как воплощение индивидуальной неповторимости, с другой ‒ всеобщности. Система языка выражает специфику национального мировосприятия. Поэтому адекватность понимания, как и точность перевода, есть вопрос репрезентации общего в частном. Этот неоднозначный процесс пронизан диалектической идеей: во-первых, происходит индивидуальное изменение и, во-вторых, через индивидуальное развивается коллективное, массовое. Вхождение человека в социокультурные контексты жизни дает в конечном счете новый стимул исторической динамике личности и общества в целом.
Заключение
Соизмерение философии и перевода дает подступ к постижению общества в двух рациональных конфигурациях, име- ющих подвижные границы. Вне всяких сомнений, этот тезис требует отдельного разбора. Однако в рамках данной статьи такая цель не стоит, здесь важно лишь обозначить, что проблема соотношения философии и перевода простых решений не имеет. Перспективы изменений в интеллектуальном пространстве «Сциллы ‒ Харибды» демонстрируют динамику движения между разными формами познания социальной реальности и фокусируются на формировании личности в контексте кардинальных трансформаций. Взгляд на мир сквозь призму философии и перевода требует пересмотра многих вопросов, круг которых постоянно расширяется и ждет своего решения.
Список литературы Философские основания перевода: "Между Сциллой и Харибдой"
- Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка. -М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. -704 с.
- Ахиезер А. С. Между циклами мышления и циклами истории//Общественные науки и современность. -2002. -№ 3. -С. 122-132.
- Ахиезер А. С. Труды. -М.: Новый хронограф, 2006. -480 с.
- Бек У. Политическая динамика в глобальном обществе риска//Мировая экономика и международные отношения. -2002. -№ 5. -С. 10-19.
- Деррида Ж. Есть ли место переводу. Философия на национальном языке//Логос. -2011. -№ 5-6. -С. 114-133.
- Куайн У. Слово и объект. -М.: Праксис: Логос, 2000. -386 с.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология/. -М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. -512 с.
- Лекторский В. А. Возможны ли науки о человеке?//Вопросы философии. -2015. -№ 5. -С. 3-15.
- Мацумото Д. Психология и культура. -3-е изд. -СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. -416 с.
- Рябова М. Э. Иноязычие как фактор развития личности и общества//Общественные науки и современность. -2008. -№ 2. -С. 167-176.
- Рябова М. Э. Человек как субъект усложняющихся коммуникаций//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. -2008. -№ 1. -С. 50-57.
- Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур. -М.: Слово/Slovo, 2008. -344 с.
- Триандис Г. К. Культура и социальное поведение. -М.: Форум, 2007. -382 с.
- Федотова В. Г. Хорошее общество. -М.: Прогресс-Традиция, 2005. -544 с.
- Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. -М.: Наука, 1988. -215 с.
- Шлейермахер Ф. О разных методах перевода//Вестник Московского университета. -2000. -Серия 9. -№ 2. -С. 127-145.
- Яницкий О. Н. Социология риска: ключевые идеи//Мир России. -2003. -Т. 12. -№ 1. -С. 3-35.
- Venuti L. Strategies of translation//Baker M. Encyclopedia of translation studies. -London and New York: Routledge, 1998. -P. 240-244.