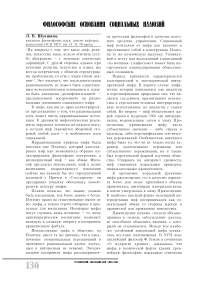Философские основания социальных иллюзий
Автор: Шукшина Л.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (6), 2006 года.
Бесплатный доступ
Социальная иллюзия, миф, интерпретация мифа, аллегория, методология анализа социальных явлений
Короткий адрес: https://sciup.org/14720403
IDR: 14720403
Текст статьи Философские основания социальных иллюзий
Ё . В. Шукшина, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева
«На вопросы о том, что такое миф, религия, искусство, язык, нельзя ответить сугубо абстрактно — с помощью логических дефиниций. С другой стороны, однако, при изучении религии, искусства и языка мы всегда встречаемся с общими структурными проблемами, то есть с иным типом зна-ния»1. Это означает, что последовательная рациональность не может быть единственным методологическим основанием и должна быть дополнена «ремифологизацией» — предъявлением построенного на рациональных основаниях социального мифа.
В мифе, как нигде, ярко иллюстрируется представление о том, что рациональная идея может иметь иррациональные источники. В древности мифологическая реальность окружала человека на каждом шагу, а сегодня миф становится оборотной стороной любой идеи — в особенности идеи социальной.
Иррациональная природа мифа была известна еще Платону, который рассматривал миф как возможность образно иллюстрировать философские построения, а несовершенный миф — как обман. Философ предлагал использовать миф в целях воспитания подрастающего поколения (сейчас мы назвали бы это «продуктивной иллюзией»). Причем в «Государстве» он предпринял попытку обосновать своеобразную цензуру мифов.
Платон полагал, что знание должно быть идеальным, тем более знание о богах. Поэтому право на существование имеют не все мифы, а только строго отборные и пригодные для воспитания. Некоторые мифы могут слушать лишь немногие —те, кому аристократическое воспитание позволяет вникнуть в сложную интригу и воспринять нравственную фабулу.
Использование мифа в обществе, по Платону, имеет ту же причину, что и предпочтение эмоциональных переживаний в противовес рациональным идеям, доступным и интересным не всякому. Эмоциональное восприятие мифа рассматривает- ся греческим философом в качестве полезного средства управления. Социальный миф неотделим от мифа как такового и представляет собой в конструкции Платона ту же поэтическую выдумку. Упомянутый к месту или выдуманный (записанный «по мотивам») мифосюжет может быть инструментом манипулирования общественным сознанием.
Период античности характеризуется аллегорической и эвгемерической интерпретацией мифа. В первом случае мифические истории понимаются как аналогии и персонификации природных сил, что является следствием примитивного невежества и стремления человека интерпретировать непостижимое по аналогии с самим собой. Во втором —миф обожествляет царей, героев и мудрецов. Обе эти интерпретации, возрожденные затем в эпоху Просвещения, приписывали мифу чисто субъективное значение — либо страха и надежды, либо персонификации эстетических переживаний. Особенностью античного мифа было то, что он не только носил характер коллективного верования или субъективного переживания, но и также был теоретической формой изучения общества. Опираясь на авторитет древности, миф становится моральным примером, иносказательным нравоучением.
В противовес моральной трактовке мифа рассмотрение его в качестве варианта более или менее пристойного обмана применялось античными материалистами, а потом утвердилось в эпоху Просвещения. В наиболее жесткой форме негативной интерпретации миф воспринимался как сознательный обман со стороны жрецов и правителей или проявление невежества.
Просвещение помимо «модели обмана» приняло и «модель заблуждения» разума, не способного объяснить явления, с которыми он сталкивается. Между тем наиболее устойчивой концепцией мифа оставалась все-таки платоновская. В XVII веке английский философ Ф. Бэкон в сочинении «О мудрости древних» доказывал, что мифы в поэтической форме хранят древнейшую философию: моральные сентенции или научные истины, смысл которых скрыт под покровом символов и аллегорий. В XVIII веке итальянский философ Дж. Вико рассматривал миф как выражение «фантастической метафизики» первобытных людей, как своеобразную «поэтическую мудрость». По его мнению, мифы «возникли из потребности природы, неспособной абстрагировать формы и свойства от предметов; следовательно, они были способом мышления для целых народов». В этой поэтической мудрости, как в семени, таится якобы бессознательно все то, что впоследствии развивается сознательно в философии.
Ф. В. Шеллинг в сочинении «О мифах, исторических легендах и философемах древнего мира» провозгласил миф матерью философии. Он вернулся к предположениям неоплатоников, будто бы в мифах, как в символах, скрывается глубокая мудрость. В его системе идеи представляются как реально осуществляемые, а боги —как реально и объективно созерцаемые философские идеи. Мифологическая фантазия сочетает абсолютное с ограниченным и воссоздает в особенном всю божественность всеобщего. В «Философии мифологии и откровения» мифологический процесс рассматривается как теогонический —бог обнаруживается в человеческом сознании.
В своих лекциях «Введение в философию мифологии» (первая четверть XIX века) Шеллинг выдвинул концепцию исследования значения мифа в противовес попыткам объяснять миф, считая его исторически обусловленной аллегорией. Мыслитель утверждал, что историю народа нужно объяснять из его мифологии, а не наоборот. Он писал, что миф не есть отсылка к чему-то иному, он сам есть истинное. Задача науки состоит в смысловом раскрыIтии мифа, в котором божественное, распавшееся в политеизме на множество, идет через теогонический процесс к самопознанию.
Во второй половине XIX века платоновская версия практически исчезает, наблюдается небывалый интерес к исследованию мифологии древних народов, диких племен, появляются новые теории, суть которых сводится к изучению языка аллегорий, «болезни», фантазий древних людей.
Основоположник натуралистической теории мифов М. Мюллер полагал, что «первобытная философия», передающая в мифах стремление людей охватить силой духа бесконечность, сложилась в Индии, откуда предки древних греков, римлян, кельтов, германцев, славян переселились в Европу в XV веке до н. э., поэтому у них общие с индийцами древние представления о мире, поклонение бесконечному небу. Позднейшие поколччения не понимали первоначального смысла названий сил природы и предположили, что это человекоподобные боги. Нарицательные слова превратились в собственные имена. Санскритское слово «Дьяус» потеряло свое первичное значение «небо», его стали понимать как имя небесного божества.
Мюллер уверял, что мифология возникла в результате «болезни языка», то есть оттого, что о явлениях природы говорили как о действиях человека, вследствие ошибок, происшедших из неверно понятых имен божеств. Большая часть сопоставлений собственных имен богов, сделанных этим ученым и его сторонниками, оказалась ошибочной, как и утверждение, что в основе всей мифологии лежит олицетворение явлений зимы и лета, борьбы дня и ночи. Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» указывал, что сравнительная мифология, подробно исследовавшая развитие религиозных представлений у индоевропейских народов, односторонне объясняла характер богов как отражение естественных сил, умалчивая об отражении мифами социальных явлений.
Антропологическая теория Э. Тейлора для анализа мифа использовала результаты исследования архаических племен. По этой концепции миф возник благодаря анимизму, направлению, которое объясняло такие явления, как смерть, сон, болезнь. Ученые этого направления считали, что миф соответствует ранним формам развития сознания и предшествует возникновению религии. Мифом называли все то, что выходило за рамки признанной, привычной и достоверной реальности.
Если соответствующее событие (образ) не имел прямых аналогий или разъяснений в Библии, то оно считалось в европейской культуре мифом-выдумкой, в боль- шей или меньшей степени подкрепленной социальными мотивами. В обыденном сознании такое отношение к мифу сохраняется до сих пор с той лишь разницей, что авторитет Библии подменен авторитетом научных догм, соответствующих усредненному уровню образования.
В. Парето, не касаясь проблем мифологии в своей работе «Трактат по общей социологии» (1946), выдвинул тезис о том, что общества существуют потому, что поведение людей нелогично, а прогресс науки вовсе не означает рационализации общества. Другие ученые пытаются объяснить происхождение мифа через рациональность. Еще в 1868 году немецкий ученый А. Бастиан выдвинул идею «элементарных мыслей», согласно которой в мифах проявляется единая природа человечества. Т. Бенфей (1859) предположил, что все мифические сюжеты заимствованы из одного источника —Индии, где они были усвоены индогерманскими народами, а потом распространены среди других народов. Существует подобного же рода гипотеза, в соответствии с которой первичные мифосюже-ты зародились в Вавилоне, а затем перенимались в процессе миграции и литературных влияний.
Принципиально иной по отношению к упомянутым теориям является теория астральных мифов (например, немецкого этнографа Л. Фробениуса). Сторонники этого подхода исходным материалом для мифов считали «события», происходящие на звездном небе, и практически все мифологические сюжеты пытались свести к солярным и лунным мифам, достаточно распространенным в мифологии многих народов. Этнографические исследования давали для данной теории богатую пищу. Миф рассматривался как описание явлений природы.
Для целого ряда мыслителей, начиная с И. В. Гете, миф —это как поэзия и «прекрасная видимость». В рамках такой позиции мифические тексты надо принимать такими, какие они есть, не прибегая к попыткам интерпретации. Миф показывает, как «природа в творчестве живет», а также как поэтическое воображение воплощается в содержание, образ и форму.
Социологический подход к мифу и религии связан с попытками обосновать его общественными отношениями, которые предпринимались практически всеми мало-мальски заметными мыслителями XIX —XX веков. Во главу угла ставились интересы классов и социальных групп, их представления о природе и обществе. Исследования вплотную подходили к пониманию взаимовлияния религии и политики. М. Вебер полагал, что как ни глубоко в отдельном случае экономически и политически обусловленное социальное воздействие на религиозную этику, ее основные черты восходят прежде всего к религиозным источникам. И прежде всего к содержанию ее благовествования и обетования. Даже если они нередко уже в следующем поколении радикально преобразуются, поскольку оказывается необходимым привести их в соответствие с потребностями общины, то приводятся они, как правило, в соответствие прежде всего с ее религиозными потребностями. Вместе с тем именно социология религии становилась причиной глубокой демифологизации общества, в котором традиционные верования заменялись социальными мифами, положенными на научные теории, которые сами собой в политических интерпретациях превращались в мифологические конструкции.
В настоящее время в науке насчитывается громадное число определений «мифа».
В широком смысле миф (от древнегреч. цо<; —слово, речь, рассказ, сказание, предание) — это фантастический вымысел, объясняющий происхождение или сущность какого-нибудь предмета или явления природы и общественной жизни чаще всего путем перенесения на них человеческих понятий и свойств; в узком смысле —это религиозный вымысел, основанный на вере в сверхъестественные существа и силы.
Массификация общества вызвала интерес к феномену коллективного бессознательного, трактуемому преимущественно как ложное знание. Но если К. Маркс говорит о мифе как о ложном сознании и полагает, что миф уходит вместе с освоением человеком сил природы, то выдающиеся французские ученые Г. Лебон и Г. Тард фактически рассматривают явления, аналогичные политическим мифам, которые улавливаются и используются политическими вождями.
Лебон впервые ясно выделил характеристики социального поведения масс: массы представляют собой социальный феномен; индивиды растворяются в массе под влиянием внушения; внушающий гипноз понимается как модель поведения вождя. Поняв смысл переломного момента истории, Лебон писал: «Главной характерной чертой нашей эпохи служит именно замена сознательной деятельности индивидов бессознательной деятельностью толпы»2. Определение истинности или ложности мифа для Лебона теряет смысл, ибо важным становится не механизм возникновения мифа, а его воздействие на поведение массы.
Тард, используя сходную с лебоновской методологию анализа социальных явлений, стал первооткрывателем влияния средств массовой информации на коллективную психику и формирование общественного мнения. Он утвреждал, что эпоха толп сменилась эпохой публик, формируемых массовыми изданиями. К концу XX века этот фундаментальный вывод стал предельно актуален —в рамках чаяний коллективного бессознательного средства массовой информации в состоянии «слепить» любой политический проект, создать собственные социальные иллюзии.
Э. Дюркгейм рассматривает мифы в лучшем случае как полезные аллегории, роль которых —создание адаптивных механизмов приспособления к меняющемуся обществу. Эту мысль подхватывает Э. Кассирер, одновременно настаивающий на том, что дологическая сущность мифологического мышления не доказана, а первобытная логика не отличается от логики современного человека, и только там, где возникает недостаток знания, в силу вступают магические и религиозные ритуалы. «В магических или религиозных ритуалах человек пытается сотворить чудеса не потому, что он не знает ограниченности своих духовных сил, а как раз напротив —потому, что отдает себе в этом полный отчет»3.
XX век заложил основы для понимания мифа как объективного культурного и психологического феномена и основания символических форм познания действительности. Вероятно, первооткрывателем прикладных аспектов указанных исследований оказался в начале XX столетия фран- цузский мыслитель Ж. Сорель, работавший над теорией социальных мифов. Он увидел в мифе возможность оформить иррациональный революционный взрыв, полагал, что миф аналогичен религии и представляет собой воображения и воли, живое идеологическое явление современности.
Миф, по Сорелю, —это символический перевод рациональности на язык масс, который санкционирует и активизирует их тотальную мобилизацию. Общественное устройство и зависящие от него идеологические концепции основываются на таком мировоззрении и понимании социального и политического, которое принципиально не сводимо к чисто рациональным конструкциям. Общественное устройство есть результат совокупности образов (миф) и воли народа (мобилизация). В таком контексте миф —это прямая противоположность чисто интеллектуальному рационализму — это реализация надежд через действие. Но он не служит доктрине, так как доктрины и системы суть интеллигентские спекуляции, имеющие мало общего с реальной схваткой и интересами пролетариев. Насилие —это доктрина в действии, чистая воля, а не умственная конструкция. В насилии миф, утверждает Сорель, становится тем, что он есть.
Миф признается не только важнейшей составной частью культуры, искусства и психики человека, но и частью идеологии. Так, Р. Барт в книге «Мифологии» (1957) говорит о том, что миф превращает историю в идеологию. Он связывает миф с языком и информацией, используя для анализа мифа понятия семиотики. Особенности мифа состоят в регрессии от смысла к форме, в превращении знака в обозначающее. Миф вырабатывает образы, объединенные смыслом, которые позволяют придавать им новые символические значения, как бы надстраивая над первичным смыслом того или иного образа вторичный смысл, служащий для создания нового знака. Мифическое понятие отчуждает первоначальный смысл, образуя качественно измененный «похищенный язык». Первоначальный смысл как бы превращается в фон или форму, подменяющую язык метаязыком мифа, оторванного от реальности. Поскольку большинству людей трудно различить знак и озна- ченное, смысл и форму, старый и новый знаки, первичный и вторичный смысл меняются местами и мифическое значение воспринимается как факт, а вторичная семиотическая система —как система фактов. Так рождаются социальные мифы, заполняющие современную историю, которую Барт относит к достоянию правых партий, к их идеологии. Именно современность становится для Барта мифологичной.
Слабость семиотического подхода состоит в предположении о существовании реальности вне ее интерпретаций. Особенно неубедительно это предположение выглядит в области общественных отношений, где немифологизированную реальность вообще невозможно отыскать.
Кассирер в своем фундаментальном труде «Философия символических форм» (1922) приходит к выводу о том, что мир мифа имеет свои законы, согласно которым слово и образ неотделимы от обозначаемых ими предметов. Кассирер рассматривает миф как форму мысли, форму созерцания и форму жизни и приводит доказательства того, что мифотворчество является одним из древнейших видов человеческой деятельности, основой его духовной жизни.
В качестве специфических черт мифологического мышления Кассирер отмечает неразличение реального и идеального, знака и предмета, вещи и образа, тела и свойства, «начала» и принципа, образа и правила, части и целого, внутреннего и внешнего, общего и единичного, вещи и ее атрибута. В отличие от научного, логического, рационального исследования действительности миф характеризуется неразличимостью истинного и кажущегося, причины и следствия, вещи и ее качества, в нем нет ступеней достоверности, нет случайности. Поэтому сходство и смежность заменяют причинную связь, а сама причинность рассматривается как материальная метаморфоза. Соответственно иными по сравнению с научными являются представления о пространстве, времени и числе. Всюду видится оппозиция профанного и священного. Временные и пространственные барьеры снимаются. Исчезает четкое разграничение между жизнью и смертью. Случайность рассматривается как божественная предопределенность, судьба. Комментируя Кассирера,
Е. М. Мелетинский пишет, что в мифе вместо иерархии причин и следствий мы видим иерархию сил и богов, вместо законов — конкретные унифицированные образы; элементы, входящие в отношения, не синтезируются, а отождествляются4.
Данной точки зрения придерживался и Гегель. Для Гегеля миф —это ступень последовательного развертывания абсолютного духа, а потому необходимая форма мышления. Миф, таким образом, не есть предрассудок. Он содержит истину на низшей ступени созерцания, предшествующей высшей ступени понятия. Живое и божественное в природе вскрывает внутренне содержание явлений, индивидуализирующихся в форме человекоподобных богов.
Характеризуя позиции Кассирера и трансценденталистов, Т. К. Хюбнер пишет: «Согласно трансцендентализму, в нем (мифе) уже содержатся все необходимые основания опыта, даже если они еще связаны чувственными образами, за которыми скрываются понятия. В последующем развитии мышления понятие вырисовывается, однако, все более явно с помощью логического анализа и освобождается в конце концов от всех шлаков в науке и трансцендентальной философии, которые взаимно проясняют друг друга, достигая высшей ясности. Миф обладает истиной, поскольку он содержит —по крайней мере в праисторическом адекватном виде — те трансцедентальные условия, которые являются предпосылкой всякого познания истины. С одной стороны, речь идет о тех же априорных предпосылках, которые субъект использует для структурирования опыта и познания; с другой стороны, они проходят историческое развитие, поскольку они позднее, впервые лишь с возникновением науки, освобождаются от доселе бессознательного использования и постигаются в более или менее понятийной форме на более высоком уровне рефлексии... миф, как и наука, предполагает определенную и эксплицитную онтологическую структуру. Иначе говоря, она покоится на определенном предположении о том, как является нам реальность и что может рассматриваться в качестве истины»5.
Дж. Кемпбелл, сторонник биологиза-торских взглядов в вопросе об изначальном происхождении мифа, социальной проекцией архетипов полагал ритуалистические мифологемы, отражающие установки на агрессию, эротику, власть и необходимость их примирения в законе, морали, социальном порядке. Так возникало представление об отражении в мифе наряду с универсальными началами человеческой природы и культурно-исторического контекста.
С одной стороны, Кемпбелл смело ставил задачу исследования роли мифа в современном обществе, утверждая, что лишившись наследия религиозных символов и ритуалов, современное «просвещенное» общество ощущает потребность увидеть за мифами и легендами некие непреходящие ценности. С другой стороны, итогом труда ученого стало отречение от представлений о социальной роли мифа в современном мире. Кемпбелл писал о «невежестве былого», из которого вышел современный человек, сокрушивший «рабство традиции» и развеявший мифические грезы ради пробуждения сознания. После тщательного анализа мифов традиционных обществ «формулы древних истин либо уже недействительны, либо невнятны, либо попросту пагубны для нашего сознания», а все мировые религии являются «основаниями раздора, будучи инструментами пропаганды и самовосхваления»6.
М. Элиаде пытался умиротворить отношение к мифу, предъявив объективные причины его присутствия в современном обществе. Современный человек по-прежнему обуреваем мифологическими страстями, только мифов стало больше, они перепутываются и хаотизируют сознание человека, создавая «шумовой фон», который многие принимают за фактор свободомыслия.
Элиаде выделил в мифе актуальность прасобытия, которое повторяется вновь и вновь в настоящем, отражая центральное место в мифе —архетип. В этом смысле миф современен, мифы образуют парадигмы всех человеческих действий.
К. Ясперс в работе «Философская вера» (1948) писал о демонологической истине — одной из истин, которая встречается помимо истины философской и которой живет большинство человечества. Ясперс очень близко подходит к проблеме ремифологизации: «Воззрение, которое с непосредственной убежденностью видит бытие во власти действующих, формообразующих сил —созидающих и разрушающих, демонов —благожелательных и злых, во власти многих богов, которое мыслит все это и высказывает его как учение, мы называем демонологией. Здесь происходит освещение как доброго, так и злого и возрастание их значения через узнавание мрачных глубин, являющих себя в образах. Имманентное само познается как божественное — страсть, власть, жизненность, красота, разрушение, жестокость.....в покорении этим силам пережитое обретает повышенное значение, сияние, почерпнутое из тайны. Тревога, трепет, ужас, взволнованность, увлеченность души замечают эти силы и как бы видят их во плоти. Борьба с ними возвышает человека, вводя его в мир демонического. Чувство единения с ними, одержимость демоном придает необоснованный размах, оправданный учением демонологии необходимости сил, которым я следую, и рост суеверного ожидания успеха в собственных делах и жизни. Основа жизни охватывается стремлением вернуться в мифологическую эпоху, создавать новые мифы, мыслить в мифах»7.
Другими словами, человек вынужден бороться с внедренными в него самого демонами, но в норме, присущей человеку средних духовных качеств, не в состоянии с ними справиться. Таким образом, европейские мыслители XX века видят в мифе злую иллюзию. Как избавиться от нее неясно, но постановка задачи избавления все-таки неизбежна, ибо мириться с демонией мифа нельзя.
Список литературы Философские основания социальных иллюзий
- Кассирер Э. Опыт о человеке. М., 1998. С. 580.
- Лебон Г. Психология масс. СПб. 1995. С. 145.
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 2000. С. 49
- Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996. С. 56-57.
- Кемпбелл Дж. Тысячеликий герой. С. 374.
- Ясперс К. Философская вера//Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 478.