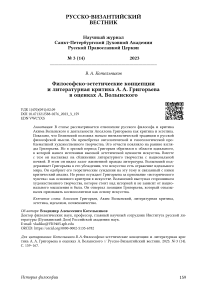Философско-эстетические концепции и литературная критика А. А. Григорьева в оценках А. Волынского
Автор: Котельников В.А.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 3 (14), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается отношение русского философа и критика Акима Волынского к деятельности Аполлона Григорьева как критика и эстетика. Показано, что Белинский положил начало нигилистической традиции в русской философской мысли. Он пренебрегал онтологической и гносеологической проблематикой художественного творчества. Это отчасти повлияло на ранние взгляды Григорьева. Но в зрелый период Григорьев обратился к области идеального, в которой нашел источники высокой эстетической ценности искусства. Вместе с тем он настаивал на сближении литературного творчества с национальной почвой. В этом он видел залог жизненной правды литературы. Волынский поддерживает Григорьева в его убеждении, что искусство есть отражение идеального мира. Он одобряет его теоретические суждения на эту тему и связанный с ними критический анализ. Но резко осуждает Григорьева за признание «исторического чувства» как основного критерия в искусстве. Волынский выступал сторонником художественного творчества, которое стоит над историей и не зависит от национального мышления и быта. Он отвергал позицию Григорьева, который отказывался признавать космополитизм как основу искусства.
Аполлон григорьев, аким волынский, литературная критика, эстетика, идеализм, почвенничество
Короткий адрес: https://sciup.org/140300868
IDR: 140300868 | УДК: 1(470)(091):82.09 | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_3_159
Текст научной статьи Философско-эстетические концепции и литературная критика А. А. Григорьева в оценках А. Волынского
С 1840-х гг. в русской эстетической мысли и критике становились все более влиятельными взгляды «послегегелевского» Белинского, которого не интересовали философско-эстетические основания творчества и который главным критерием ценности в литературе провозгласил способность «реальной поэзии» воспроизводить «правду жизни», так хорошо известную ему по собственному опыту, но до сих пор, негодовал он, не обнародованную с «беспощадной откровенностью» в журналах и книгах. С этим критерием он действовал как критик, требуя от писателей злободневной «социальности» («социальность или смерть!» был его девиз) и следования свободной «новой морали». При этом Белинский остался при рутинных представлениях о природе творчества и не ушел дальше «подражания действительности», к тому же сузив последнюю до текущей жизненной эмпирии. Но темперамент вождя заставлял его, при идейной бедности и умственной несамостоятельности, доводить до непререкаемой силы категоричность суждений и безапелляционность требований к искусству. «Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, как она есть»1, — заявлял он с первых шагов. «Искусство есть воспроизведение действительности; следовательно, его задача не поправлять и не прикрашивать жизнь, а показывать ее так, как она есть в самом деле»2, — поучал он в 1840 г. И тогда же он возвел действительность в ранг истины и поручил искусству выражать ее в этом качестве: «Искусство есть выражение истины, и только одна действительность есть высочайшая истина»3.
Белинский продемонстрировал, что вовсе не обязательно различать истину как абсолютную ценность и истину как соответствие суждения опыту, не обязательно отличать то и другое от правды как соответствия факта нравственному закону и от правды как жизнеподобия. В его плодовитой деятельности обнаружилось симптоматическое для эпохи пренебрежительное отношение к гносеологической и онтологической проблематике как самой литературы, так и критической рефлексии о ней.
Подобные симптомы заметны даже у смело и независимо мыслящего критика середины века — А. А. Григорьева4. Он мог в программной статье «О правде и искренности в искусстве» (1856) заявить, что искусство «слепо в отношении к тому, чего на земле и в жизни нет», но зато «необыкновенно зряче» ко всему земному и «требует правды и всюду вносит свет правды»5. Исключая из круга созерцаний искусства область идеального, Григорьев тем самым необходимо признавал, что источник «света правды» находится в самой же действительности, что его достаточно для полного и верного ее освещения и что критерии для суждения о жизни и об искусстве нужно брать из жизни же. В этом фазисе своей работы Григорьев был увлечен идеей «органической этики» искусства, искал моральные и познавательные основания творчества в современной «почве»; он не всматривался в выдвинутые философским идеализмом проблемы, его даже не насторожило их вызывающее обострение у предницшеанца М. Штирнера, чья знаменитая книга побудила Григорьева лишь к сближению автора с Байроном6.
Нужно учесть, что Григорьев, чуткий ко всем «веяниям», нередко воспринимал «идеализм» как рецидив книжного романтизма, напряженное, но беспочвенное вымогание у жизни «идеала». Тогда понятно, почему для него «идеализм — одна из болезней нашего века» и почему герой повести А. В. Станкевича неизлечим от этой болезни, а «дитя почвы» Лаврецкий способен к выздоровлению — к «нравственному смирению» перед «почвой»7.
Однако в другом фазисе своей философско-эстетической рефлексии Григорьев развил тему отношений литературы к действительности с большей последовательностью и проницательностью и привел ее к понятию «отрицательного реализма». Здесь он уже не пренебрег немецким наследием (догегелевским) и совершенно точно определил, в каком направлении движется и к каким результатам приходит литература, сосредоточившаяся исключительно на действительности. Гоголь закончил «одним словом отрицания. <…> Другие талантливые люди продолжали вести до геркулесовых столбов чистый, то есть отрицательный реализм, и можно сказать, что глубже нельзя было вести реализм, чем Толстой, проще и прямее, чем Писемский. Я назвал этот реализм отрицательным, потому что, в сущности, он другого значения и не имеет. Толстой неумолимо и мучительно преследует все фальшивое, деланное, сочиненное в мире человеческой души. Писемский спокойно, но так же неумолимо преследует все недействительное, сочиненное, „напущенное“ в нашем быту и в нашей жизни. У того и у другого равно нет никакого определенного идеала, перед которым известные явления казались бы фальшивыми, кроме идеала отрицательного, „действительности“… А что такое наша действительность ? <…> Наша „действительность“ нечто совершенно несложившееся. Наш „реализм“, то есть измерение всего действительностью, должен был запутаться непременно в безымянном, до отчаяния доходящем отрицании»8.
В таком безысходном возвращении самопознания действительности к своим разрушаемым основаниям был очевиден кризис свободного творчества, и Григорьев осознал это еще в 1858 г. в связи с кризисным положением критики. Она всегда будет несамостоятельна или ложно самостоятельна, «если критериум для критики берется в явлениях жизни или явлениях же искусства». Выход открывается только в сферу идеального, о чем и говорили немецкие мыслители еще в конце XVIII в. Теперь в этом убежден и Григорьев: «Как искусство , так и критика искусства подчиняются одному критериуму. Одно есть отражение идеального, другая — разъяснение отражения. Законы, которыми отражение разъясняется, извлекаются не из отражения, всегда как явление более или мене ограниченного, а из существа самого идеального. Между искусством и критикою есть органическое родство в сознании идеального, и критика поэтому не может и не должна быть слепо историческою <…>»9.
Знаменательно завершил Григорьев одну из поздних своих статей: «Я кончаю вопросом, но вопрос этот вовсе не во вред реализму. Нет, он только один из вопросов, за идеализм»10. Однако, ратуя «за идеализм», Григорьев нашел и другой, все более ценимый им фактор «органического» искусства — этнокультурную почву, чьи живые соки питают творчество.
Фигура Аполлона Григорьева крупно представлена в книге литературного и балетного критика, искусствоведа Акима Львовича Волынского (1863–1926) «Русские критики» (1896). Несомненно, этот человек и литератор был Волынскому остро интересен, и нам небесполезно бы знать, в какое отношение к «органическому» Григорьеву мог встать Волынский, отвергавший сращенность творчества с «почвой», требующий от мысли и искусства служения исключительно высшим, наднациональным и надысторическим идеалам.
Первое, что мы видим, — встречу двух страстных односторонностей. Еще одна общая черта — одиночество. Уединенный в своем литературно-философском углу мыслитель Волынский, прятавший себя там за высокомерием, увидел внутреннюю отъединенность, прячущуюся за эмоциональным и житейским безудержем, в Григорьеве, который «с каким-то сладострастным неистовством разжигал в себе ощущение всеобщей вражды, доводил до экстаза раз овладевшее им болезненно-дразнящее чувство полного, идейного и литературного одиночества»11.
То, как описывается личность Григорьева с его особым психическим складом, окружением, колоритом быта и нравов, — характеризует не только Григорьева, но и самого Волынского. Последний, по контрасту со своими суховатоотстраненными штудиями о Белинском, Добролюбове, Писареве, предстает здесь в экспрессивном художественном темпераменте, что случалось нечасто. Натуру Григорьева он определяет очень выразительно, играя контрастами: «В этом грубом, буйном, грязном человеке постоянно звучала мягкая поэтическая нота. Под копотью вульгарных страстей, под рыхлым слоем беспорядочной чувственности не переставали пробиваться живые, светлые настроения, делавшие его симпатичным, почти обаятельным для близко знавших его людей. Во всем его существе, забрызганном житейскою грязью, во всей его фигуре, обезображенной неряшливыми привычками, проглядывала какая-то самобытная, природная красота — сочетание силы и сердечности»12.
Волынский здесь отчасти продолжает и раскрашивает определение, данное ранее К. Н. Леонтьевым на основании его личных впечатлений: «Апол. Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале; — его идеал был — богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности. <…> Для себя лично он предпочитал ширину духа — его чистоте»13.
Что импонирует Волынскому в Григорьеве — это то, что при стихийности его стремлений ко всякой красоте, при беспутности увлечений, он все-таки выработал безупречный эстетический вкус, который верно указывал ему значительные явления в литературе и определял меру их ценности. Когда Григорьев следовал этому вкусу в трактовке произведений и в собственном стиле, Волынский восторгался его артистизмом, называя так способность критика «легко, непосредственно, непринужденно улавливать красоту»14 в искусстве и давать о том ясный отчет. Однако и в этом качестве Григорьев бывал увлекаем своим безудержем. Тогда в превосходной по многим суждениям статье о «Дворянском гнезде» являлся «какой-то хаос взбудораженных артистических чувств, владеющих натурой писателя, уносящих в разные стороны его мысли»15. Кроме того, важнейшим инструментом в его критическом творчестве Волынский считал верное нравственное чувство, которое безошибочно указывало на внутреннюю правду в творении писателя. Как называл это Волынский, «полную и совершенную правду» Григорьев увидел, на радость Волынскому, в гоголевских «Выбранных местах из переписки с друзьями».
Помимо рационально мотивированного вкуса у Григорьева была развита эстетическая интуиция, благодаря которой он предвидел значительные литературные события, появление новых талантов, — так предсказал он приход в драматургию Островского, что с удовлетворением отметил Волынский.
Но в том, что затрагивает жизненные и моральные принципы самого Волынского, ни малейших уступок не допускается. Как раз на Островском он поначалу и схватился с критиком.
Провозглашение Григорьевым в статье о «Грозе» необходимости полного смирения перед жизнью вызывает суровый упрек, ибо, говорит Волынский, критик не понимает, «что ни о какой гармонии внутренних и внешних начал не может быть и речи»16. Он «смешал, — объясняет Волынский, видящий историческое развитие только в чреде острых коллизий в обществе и культуре, — смешал сдержанное спокойствие художественного исполнения с недостижимым и ненужным равновесием вечно борющихся между собою духовных сил и внешних стихий»17.
И следом в очередной раз развертывает собственные философские тезисы на тему противостояния идеала и действительности, которое, по Волынскому, возобновляется на каждом этапе развития, в каждом конфликте искусства и реальности, художника и жизни.
Применяя к пьесам Островского (преимущественно «москвитянинского» периода) критерии своей идеалистической эстетики, Волынский несколько охлаждает разгоряченную (хотя оттого-то стилистически и расцветающую) григорьевскую их трактовку. По репутации Островского-классика наносится сильный удар. Волынский считает ложным придавать этой, по его определению, «драматической этнографии» значение высокого искусства, поскольку в авторе нет «настоящего идейного огня». «Его положительные идеалы, при всей их безупречности с точки зрения ординарной добродетели, не переходят за границу нескольких пошлых правил узаконенного житейского кодекса. Его лучшие герои не более, как протестантствующие мещане, над которыми витает мечта автора об утешительном союзе добродетели с практическим благополучием»18.
В связи с этим Волынский не преминул подметить отсутствие у Григорьева полной уверенности, что Островский оправдает все его ожидания. Не без оснований он предполагает в Григорьеве понимание того, что в творчестве талантливого драматурга нужен бы, кроме «коренастых, крепких, дубовых начал», «огненный, увлекающий порыв иной силы», чего — и тут Волынский горячо поддерживает Григорьева — недостает Островскому, а без того «литература не может достигнуть тех вершин, на которых она становится одновременно и народною, и общечеловеческою»19.
Не лишне упомянуть, что сходным образом посмотрела на ситуацию с Островским Н. С. Соханская (Кохановская), писавшая А. В. Старчевскому: «Помните то время, когда бедный „Московитянин“ все добивался нового слова , и ему казалось, что г. Островский сказал это слово, и Писемский его выговорил, и еще, кажется, другие. Я хорошо смекала в глуши своей Макаровки, что — пустяки! Даже такое прекрасное произведение как „Свои люди — сочтемся“ не есть новое слово: потому что оно ничего нового не говорит нам. Это тот же Гоголь в страшном пафосе его отрицания, смеющегося до слез. Новое слово должно родиться от нового духа»20.
Разумеется, Волынскому наиболее близок и дорог Григорьев в своих общих взглядах на искусство — именно как они изложены в статьях «О правде и искренности в искусстве», «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства». «По силе теоретической мысли и смелости отдельных определений это — лучшие его работы и, может быть, самое значительное из всего, что написано на эту общую тему в русской журналистике»21. Никто из русских критиков и эстетиков подобной похвалы Волынского никогда не удостаивался. Обе статьи он называет настоящим критическим каноном, которому автор оставался верен до конца своей жизни. С доброжелательной внимательностью он вникает в содержание статей и передает их основные положения.
Но не высказать несогласия с некоторыми из них он, конечно, не мог, и прежде всего это касается пристрастно апологетического отношения Григорьева к народнонациональному началу в искусстве и даже в науке. Волынский же понимает это начало только как определяемую местными условиями форму для выражения наднационального, общечеловеческого духовного содержания. Он одобряет Григорьева, когда тот противопоставляет свою теорию «органической критики» утилитарному взгляду на искусство, но решительно отвергает провозглашение им «исторического чувства» как главного критерия в отношении к искусству, поскольку видит, что под «чувством истории» критик подразумевает приверженность к исторически сложившимся народным свойствам, преданиям, укладу. Из григорьевской «органики» он хотел бы изъять всякие «почвенные симпатии», которым он предпочитает высшие, «отвлеченные» идеи, утрачивающие яркую национальную и местную окраску. Такая позиция, безусловно, преобладает у него в применениях критико-идеалистических методов к культуре, но он мог отходить от нее при решении некоторых литературно-критических задач, как то происходило в обращении к поэзии Кольцова. Приходится припомнить также его рассуждения о народности Пушкина и Достоевского.
Наибольшее и неустранимое расхождение заключалось в одном пункте: Григорьев восставал против идола абстрактного человечества и объявлял несостоятельным космополитизм в определении целей и источников искусства. Волынский отстаивал идеальную природу искусства и сверхисторичность его целей, полагая, что все условное, конкретно историческое, индивидуальное ограничено во времени, изменяется с его течением и разрушается, а идеальное бессмертно и неизменно по своей сущности. В этом убеждении Волынский бескомпромиссен и не прощает Григорьеву почвеннических увлечений в его «органической критике». (Примечательно, что гораздо терпимее он отнесся к почвенническим умонастроениям Н. Н. Страхова, — видимо, в признание его заслуг профессионального философа в твердом проведении идеалистической линии.)
С крайним неодобрением Волынский смотрит на возвышение Григорьевым из выделенных им двух человеческих типов, нашедших литературные воплощения, типа смиренного над типом хищным . Здесь затронута самая сердцевина антропологии Волынского, и он разражается негодующим пассажем против ненавистного ему морального и гражданского смирения, уже не сдерживаясь в уничижительных оценках. «Никакая смелая освободительная идея не прохо
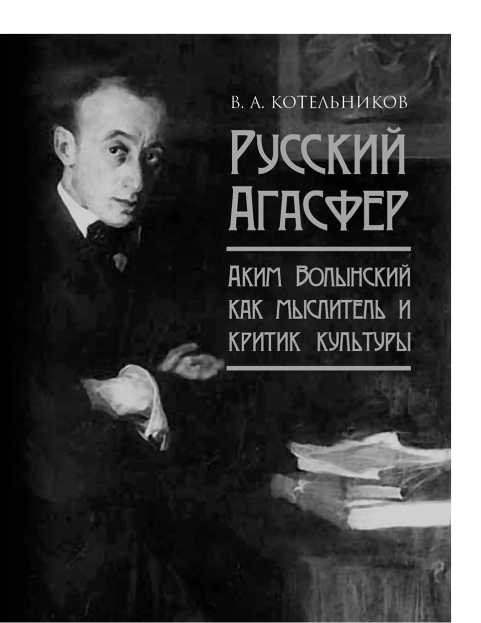
Книга В. А. Котельникова об Акиме Волынском (СПб.: Владимир Даль, 2023)
дила в историю через посредство смирных людей, перед которыми Аполлон Григорьев возжигает фимиам своего беспорядочно бурного российского красноречия. Образуя иногда как бы рыхлый, влажный чернозем, на котором всходят семена, рассеиваемые людьми тревожного типа, смирные люди всего чаще являются инертною силою, задерживающею всякий духовный рост общества, всякую попытку словом или делом разрушить мертвые формы существующего для создания новой, лучшей эпохи. Тип тех русских людей, которые не давали жизни окончательно замереть, закоснеть
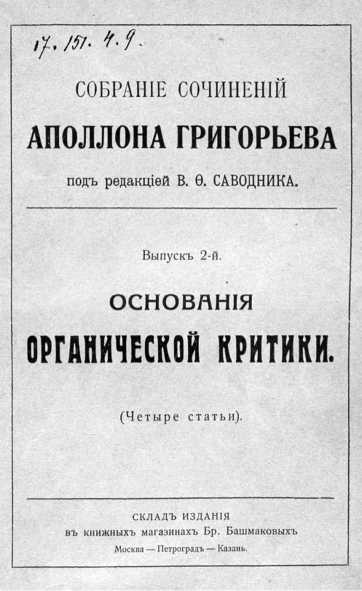
Второй выпуск Собрания сочинений Аполлона Григорьева «Основания органической критики» (М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1915)
или разложиться в смрадное стоячее болото, никогда не был типом смиренным, покорным, бездеятельным, хотя, по особенностям народного темперамента, он не терял черты сердечной мягкости и широкого благодушия. Но мягкость и благодушие, при отсутствии возбуждающих тревожных элементов, легко переходят в то пошлое, рабское смирение перед действительностью, которое всегда тянет ко дну все прогрессивные силы общества и которое — при ложных отправных пунктах в рассуждениях Аполлона Григорьева — разливается мутными волнами по его статьям между талантливыми, иногда вдохновенными тирадами об органическом искусстве и идеально-артистической критике»22.
Накопившееся к концу главы о Григорьеве раздражение Волынского чуждыми ему идеями дало себя знать на последних страницах в ряде отрицательных суждений о деятельности критика.
Тут Волынский тоже не знает удержу. Он находит у Григорьева впадение в «грубое мещанство мысли и вкуса»23, искание «художественного равновесия и благодушного типично русского смирения перед фактами действительности»24 и видит критическую работу Григорьева «вылившеюся в незаконченные, расплывчатые, часто прямо уродливые формы и отражающею в себе беспорядочную, неряшливую и, несмотря на все романтические, вдохновенные порывы, в общем монотонную жизнь его»25.
Напоследок уместно поставить вопрос, заданный Леонтьевым в споре с П. Астафьевым: «Кто правее?»
Список литературы Философско-эстетические концепции и литературная критика А. А. Григорьева в оценках А. Волынского
- Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М.: Художественная литература, 1976.
- Волынский А. Л. Русские критики. Литературные очерки. СПб.: Тип. М. Меркушева. 1896. 824 с.
- Григорьев А. А. Искусство и нравственность / Сост., вступ. ст. и коммент. Б. Ф. Егорова. М.: Современник, 1986. 351 с.
- Григорьев А. А. Эстетика и критика / Вступ. ст., сост. и примеч. А. И. Журавлевой. М.: Искусство, 1980. 496 с.
- Даренский В. Ю., Дронов И. Е., Ильин Н. П., Котельников В. А., Медоваров М. В., Фатеев В. А., Гаврилов И. Б. Философия Аполлона Григорьева (1822-1864) в контексте русской и европейской мысли и культуры. К 200-летию со дня рождения. Материалы круглого стола научного журнала СПбДА "Русско-Византийский вестник" // Русско-Византийский вестник. 2023. № 3 (14). С. 12-48.
- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Гл. ред. В. А. Котельников, подг. текстов О. Л. Фетисенко, коммент. В. А. Котельникова, О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль. 2003. Т. 6. Кн. 1. 820 с.
- Соханская Н. С. Письмо к А. В. Старчевскому // Новости и Биржевая газета. 1884. 16 дек. № 347.