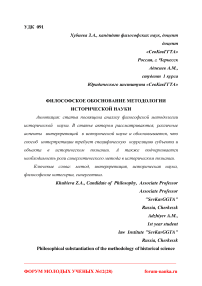Философское обоснование методологии исторической науки
Автор: Хубиева З.А., Аджиев А.М.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 12-4 (28), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу философской методологии исторической науки. В статье автором рассматриваются, различные аспекты интерпретаций в исторической науке и обосновывается, что способ интерпретации требует специфическую корреляцию субъекта и объекта в историческом познании. А также подчеркивается необходимость роли синергетического метода в историческом познании.
Метод, интерпретация, историческая наука, философские категории, синергетика
Короткий адрес: https://sciup.org/140281541
IDR: 140281541
Текст научной статьи Философское обоснование методологии исторической науки
В исторической науке методом разработки концепций как идеальных моделей прошлого выступает интерпретация источников, содержащихся в исторических текстах и фактах. Интерпретация в настоящее время широко используется в современной науке, в том числе в исторической науке. Однако необходимость применения метода интерпретации в исторической науке обусловлено: особенностью объекта исторического отражения, который представляет собой действительность, опосредованную историческими документами, письменными и материальными свидетельствами, требующими адекватного истолкования; непрерывно изменяющимися временем и общественной ситуацией, в пределах которых появляются новые смыслы истории, ее оценки и образы, то есть новая трактовка событий; непрерывным развитием интеллектуального «горизонта» и ценностной ориентации субъектов исторического познания, которые вызывают перманентный характер переинтерпретации исторического материала.
Заметим, что в истории существуют различные аспекты интерпретации. В этом отношении имеется связь между интерпретацией, исторического нарратива определением исторических фактов и историческим рассмотрением. Однако в литературе по данному вопросу существуют различные точки зрения. Так, например, Ф. Анкерсмит полагает, что категория «историческое исследование» связано с наиболее точным определением исторических фактов, а нарративное изображение истории предполагает соединение фактов «в последовательное историческое повествование» [1, с. 23]. Разумеется, что факты приходят историку из определенных источников, которые требуют в специфическом виде интерпретации - аксиологическом, с целью, чтобы определить их точность. Что касается нарративного изображения истории, то оно есть повествовательное изложение событий.
Но с нашей точки зрения в историческом отражении повесть не является научной ступенью познания истории, а также не выступает методом теоретического познания. С целью выхода из этого положения В.Н. Сыров, применяет наряду с «классическим нарративом» понятие «исследовательский нарратив» [2]. Однако от того, что нарратив мы называем другим словом все равно он остается повествованием. В силу этого эпистемология интерпретации в историческом познании исследуется по другому: в виде фактологической формы; в виде нарратива; в форме концепции. Рассматривая, эти вопросы в пределах герменевтики П. Рикер пытается обосновать все эти формы, ибо специально исследует теоретический уровень интерпретации, в которой соединяются метод и истина [3].
Представляется, что способ интерпретации требует специфическую корреляцию субъекта и объекта в историческом познании. В истории одинаковые события имеют многообразные, часто противоречивые общественные, религиозные и нравственные интерпретации и смыслы, начиная от многообразных оценок исторических личностей, кончая событиями всемирного значения: возникновение и гибели цивилизаций и империй, мировые войны и социальные революции. Наличествовали и наличествуют многообразные исторические школы, в которых не одинаково оценивают и интерпретируют одни и те же исторические события.
Необходимо подчеркнуть, что наука в современную эпоху не отрицает многообразные научные трактовки физической и социальной действительности. Подобные предположения возникают из многообразных методологических оснований: одни - из отрицания истины в науке, другие - из относительности истины (Н. Бор, К. Поппер), третьи - из практической целесообразности концепции (прагматизм, марксизм), четвертые - из понятия о конвенциальной природы истины в разных научных сообществах (А. Пуанкаре, научные парадигмы Т. Куна и т. д.).
Вопрос многозначной трактовки исторических фактов имеет онтологические, источниковедческие, мировоззренческие и нравственные основания. Представляется, что онтологическая база состоит в разносторонности и противоречивости самой исторической действительности, которая отражается в ее источниках, текстах и теоретической рефлексии. Данные трактовки различных интерпретаций исторических событий допускаются онтологическим аспектом познания.
При этом различные трактовки исторических событий сопряжены с мировоззренческими ценностями и общественной ориентацией конкретной культуры, ее духовными и политическими приоритетами, а также обусловлены взглядами исторических школ и т.д.
Таким образом, трактовка прошлого - это в известном смысле конструирование истории. В силу этого главный вопрос исторической науки - вопрос о том, как писать историю? По этому вопросу существуют различные точки зрения.
Заметим, что для некоторых авторов, только история, трактуемая на одних фактах, представляется подлинной историей. Но такой подход к истории как основной метод рассмотрения истории не всегда гарантирует необходимую научную глубину проникновения в ткань исторических событий и их всесторонний анализ. Часто подобный способ ограничивается исследованием поверхностных, хронологических, а не существенных, логически понятых исторических связей.
В этой связи заметим, что для теоретического анализа истории ведущее значение имеет рассмотрение того, почему осуществилась именно данная возможность, а не другая.
Говоря о возможностях, следует сказать, что в неклассической науке, рассматривающей природу на уровне микромира, случаю придается не меньшее значение, чем необходимости. Аналогичным образом и в истории следует согласиться с пониманием значения случайности как значительного фактора многих, если не всех исторических событий.
В этой связи рассмотрим исторические закономерности, осознание которых представляется как значительная база для трактовки отдельных исторических событий.
Но можно ли использовать категории философии единичное и общее для объяснения исторических событий. В этом отношении возникает вопрос: наличествует ли общее в форме возобновляемости исторических событий, или они неповторимы, как неповторимо время, в котором они происходят? Всякая попытка отрицать возобновляемость событий ведет к отрицанию закономерностей в их происхождении и в историческом процессе в целом. Возобновляемость событий во многом определяет характер исторического развития. Но существуют точки зрения, которые признают неповторимость и уникальность исторической реальности. В этой связи В. Виндельбанд отмечает, что история отличается от естествознания, которое нацелено на отыскание общих необходимых связей для определения законов тем, что должна определять ценность уникального, «однократного» неповторяющегося события.
Индивидуальность и неповторимость исторических событий невозможно отрицать. Но это вовсе не означает отсутствие общего в этих событиях. Единичное всегда существует в общем и через общее, а общее существует в единичном и через единичное. Так, например, первая мировая война никогда не повторится в том смысле, что в современную эпоху не будут воздушные бои на примитивных аэропланах, газовые атаки и т.д., но сами войны как исторические события повторяются.
Повторяемость общего в виде законов позволяет избегать ошибки прошлого. Представляется, что наличие исторических законов связано не только с повторяемостью исторических сценариев, но и с целостностью и направленностью исторического процесса.
В этой связи следует указать на роль синергетического метода в историческом познании. Говоря о синергетике, М. Томпсон пишет: «Синтезирует целый ряд фундаментальных выводов естественнонаучной и социальной мысли последнего столетия (теории вероятности, информационно-кибернетического подхода, структурного функционализма, теории диалогового взаимодействия и др.), вырабатывая вместе с тем принципиально новую методологию, которая может быть использована в изучении как физического мира, так и живой материи, а также социальных систем и культуры в целом» [4, с. 201]. В современной науке четко проявляется междисциплинарный характер синергетики, теория и методы которой приобретают универсальные функции и могут использоваться в естественных и социально-гуманитарных науках. Однако не следует абсолютизировать роль синергетики, ибо она имеет некоторые характерные черты диалектического метода познания. Так, например, B.C. Степин пишет: «Синергетику можно рассматривать как продолжение гегелевской диалектики» [5]. Об этом свидетельствует факт о том, что основные принципы синергетики - нелинейность развития (скачкообразность), открытость и когерентность, неустойчивость в точках бифуркации, саморазрушение и самоорганизация (хаос и выход из хаоса) и т.д. осмыслены и описаны на философском языке в диалектике, отражены в ее законах.
В настоящее время синергетика широко используется в истории. Так, например, С.Г. Гаюмов соединяет эволюционную и бифуркационную модели истории. С его точки зрения своеобразием эволюционного развития является детерминация исторических процессов и наличие в них сети многообразных причинно-следственных связей, придающих этому процессу системное качество. Он подчеркивает, что «разрушение» системы, ее вступление в фазу бифуркации приводит к появлению новой «карты возможностей», представляющей набор различных вариантов приобретения новых системных качеств [6, с. 104].
Список литературы Философское обоснование методологии исторической науки
- Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. - М., 2003. С. 23.
- Сыров ВН. Введение в философию истории. - М., 2006.
- Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. - М., 1995; Конфликт интерпретаций. - М., 1995.
- Томпсон М. Философия науки. М, 2003. С. 201.
- Круглый стол по синергетике // Вопросы философии. 2006. № 9.
- Гаюмов С.Г. От истории синергетики к синергетике истории// ОНС. 1994. № 2. С. 104.