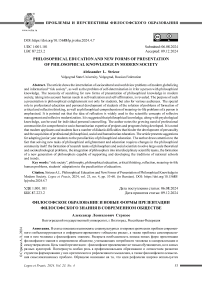Философское образование и новые формы презентации философского знания в современном обществе
Автор: Стризое А.Л.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Проблемы и перспективы философского образования: к 30-летию начала подготовки философов в ВолГУ
Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье показана взаимосвязь социокультурных и мировоззренческих проблем современного глобализирующегося и информатизированного «общества риска», а также проблема самоопределения в нем человека с философским знанием. Раскрыта необходимость поиска новых форм презентации философского знания в современном обществе, учитывающих потребности человека в самореализации и самоутверждении. Цель такой презентации - философское просвещение не только обучающихся, но и самых разных аудиторий. Подчеркнута особая роль в профессиональном образовании и личностном развитии студентов формирования у них критического и рефлексивного мышления, а также философского осмысления смысложизненных проблем. Обращено внимание на то, что идея рефлексии широко используется в научных концепциях рефлексивного управления и рефлексивной модернизации. Высказана мысль о возможностях использования философского знания наряду с психологическим для индивидуального личностного консультирования. Автор отмечает возрастающую потребность профессиональных сообществ в комплексной социально-гуманитарной экспертизе разрабатываемых проектов и программ. Отмечено, что современные абитуриенты и студенты сталкиваются с рядом дидактических трудностей, сдерживающих развитие личности и затрудняющих получение профессионального философского и социально-гуманитарного образования. В статье представлены предложения по адаптации студентов младших курсов к особенностям философского образования. Автор обращает внимание на то, что решение новых задач философского просвещения и образования требует изменения самого философского сообщества: формирования исследовательских коллективов философов и обществоведов для решения масштабных теоретических и социально-технологических задач, интеграции философов в междисциплинарные научные коллективы, формирования нового поколения философов, способных поддержать и развить традиции отечественных школ и направлений.
«общество риска», философия, философское образование, критическое мышление, рефлексия, смысложизненные проблемы, адаптация студентов к особенностям обучения
Короткий адрес: https://sciup.org/149147479
IDR: 149147479 | УДК: 1:001.101 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.4.7
Текст научной статьи Философское образование и новые формы презентации философского знания в современном обществе
DOI:
Цитирование. Стризое А. Л. Философское образование и новые формы презентации философского знания в современном обществе // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 4. – С. 53–60. – DOI: 10.15688/
В современном информационном обществе любое знание не существует в какой-либо единственной, завершенной и систематической (например, в научной) форме. Культура XXI в. задает множество контекстов, в каждом из которых существуют, находят и выражают себя разнообразные виды знания. При этом содержательная сложность знания и технологическое многообразие его применений делают необходимой его презентацию, облегчающую выявление скрытого смысла и когнитивного потенциала, а также его места и роли в повседневности.
Описывая презентацию философского знания, можно использовать образ, который, согласно А.Ф. Лосеву, передает суть древнегреческого мировоззрения: мир – театр, на сцене которого появляются из космоса и уходят туда же люди, играющие разные, часто непонятные публике, роли [Лосев 1990, 63]. Аналогично этому на социокультурной сцене – глобальной и локальной – появляются и уходят философские идеи и концепции, раскрывающие свое содержание в литературных и художественных образах, научных концептах и теориях, мифологемах и идеологемах, рациональных доктринах и символических конструктах. Их связь с философскими абстракциями со временем, как правило, теряется из виду, меркнет на ярком фоне конкретных, жизненно важных для череды поколений переживаний, открытий и озарений. Но без этой связи, которая стала возможной благодаря тому, что волнующая предков и современников злоба дня была «схвачена» многообразным и хорошо настроенным аппаратом философского мышления, была бы невозможна трансляция позитивного и негативного социокультурного опыта. Вместе с ней были бы поставлены под вопрос представления о настоящем и будущем, о перспективах человека и человечества. Именно поэтому прежде чем обсуждать проблемы презентации философского знания в современном российском обществе обратимся в специфике той самой «злобы дня», к тем социокультурным рискам и вызовам, с которыми сталкиваются и человечество в целом, и российское сообщество в частности.
Жить в мире, разные стороны которого охвачены глобальными изменениями и трансформациями, означает постоянно сталкиваться с вопросами о собственной природе и принадлежности, о своей локальной и индивидуальной идентичности. Помимо двух – повседневных и макросоциальных (профессиональных, демографических, поселенческих, этнокультурных) ролей и связанных с ними идентичностей существует и философско-мировоззренческий аспект решения вопроса «кто я?». Связанная с ним рефлексия соотносит индивидуальное «я» или коллективное «мы» с типом личности или общности и связанными с ними высшими смысложизненными ценностями и идеалами, с доминированием традиционных, модернистских или постмодернистских установок в системе социокультурных ориентаций, с выбором репродуктивного или креативного, «открытого» или «закрытого»
сценариев самоутверждения и социального взаимодействия. Помочь человеку в поиске оснований своего «я» наряду с другими отраслями социально-гуманитарного знания может философия. Именно она выявляет тот факт, что затруднения человека при попытке ответить на вопрос «кто я такой?» указывают на фрагментацию сознания, ставящую под вопрос «важнейшее условие нормальной человеческой жизнедеятельности (с точки зрения той нормы, которая до сих пор была неоспоримой) – существование единства сознания, как синхронного, так и диахронного» [Лекторский 2017, 111].
Современная технологическая революция требует от человека не просто готовности и способности осваивать постоянно обновляющийся арсенал прикладных знаний, умений и навыков, но и ясного понимания конечных смыслов и целей технологического действия. При этом все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда скорость технологических инноваций существенно обгоняет объективное выявление всего комплекса их реальных последствий и осознание людьми их возможного спектра. Социальный опыт ХХ в. убедительно подтвердил справедливость выдвинутой современной философией идеи об открытости и непредопределенности человека, его равной способности к добру и злу. В свете этого вопрос о том, куда и на что направит человек современные и будущие технологические инновации, прямо связывается с вопросом о самосохранении и перспективах человека и современной цивилизации. Технологический выбор становится сегодня экзистенциальным. Среди других видов социально-гуманитарного знания именно философское ориентировано на поиск разумного выбора того или иного варианта отношения человека к окружающей действительности.
Информатизация общества порождает не только проблему освоения информации, ее превращения в знание. Информационные войны и связанные с ними манипулятивные технологии приводят к тому, что человек и общество сталкиваются с избыточностью знания, его принудительным навязыванием, превращением человека в значительной мере в существо, управляемое и манипулируемое информационными процессами и кампаниями.
Самосохранение человека, общества и культуры в этих условиях ставит проблему обеспечения информационной гигиены, формирования и поддержания информационного иммунитета. Все это трудно представить вне философского дискурса о самосознании, самоконтроле, самоорганизации и критическом мышлении.
Осмысление процессов глобализации и информатизации в последние десятилетия позволило заметно углубить наши представления о современном обществе как «обществе риска». Сегодня мы говорим о рискогенных субъектах и их стратегии, бросающей вызов не только традиционным, но и инновационным социальным практикам и институтам. Управление рисками порождает противоречивую ситуацию. Как отмечает В.А. Лекторский, «с одной стороны, появляется необходимость принятия быстрых решений в непредвиденных ситуациях, то есть увеличения пространства свободы. С другой – возникает необходимость большего контроля за индивидом со стороны общества, особенно в условиях техногенных и террористических угроз» [Лекторский 2017, 112]. Меры по минимизации рисков, по профилактике и предотвращению материального и социального ущерба не избавляют нас от обсуждения вопросов о цене достигаемых результатов. Является ли социальная цена неизбежной при приятии любого социального решения или она возникает только в ситуациях неопределенности и риска? Готово ли общество принять практики принуждения, про-филактирующие риски или направленные на снижение их социальной цены? Все это придает традиционной социально-философской и философско-антропологической проблематике экзистенциальное измерение.
Социокультурные трансформации конца ХХ – начала XXI в. создали парадоксальную ситуацию, когда калейдоскопичность бытия, высокий темп коммуникации и социальных изменений запускают действие противоречивых тенденций. С одной стороны, современное российское общество не готово и не хочет читать «длинные тексты» культуры. Оно не готово принять «медленное» время романа или философского трактата. С другой стороны, оно готово к постижению «длинных мыслей»: испытывает потребность в проекте
«образа будущего», интересуется социальными прогнозами, хочет иметь представления о «будущем своих детей» и социальной перспективе. С одной стороны, в фокусе общественного мнения чаще оказываются конкретные ситуации, микромасштабы пространства-времени, чем макросоциальные сдвиги и преобразования. С другой стороны, желание быть счастливым «здесь и теперь» сочетается с «алармистским глобализмом», обостренным вниманием к планетарным проблемам.
Общественное сознание оказывается в своеобразном «плену» глобального пространственного мышления в ущерб глубокому изучению перспектив социальной организации будущего. Исследователи видят в этом одно из важнейших проявлений кризиса цивилизации [Гусейнов 2017, 66]. Но перед нами и кризис хронотопа знаково-символических систем современной культуры. Распространяется ли он на хронотоп текстов современного российского философского знания? Какова в этой связи судьба академического философствования? Должно ли его функционирование опосредоваться различными формами презентации и «технологизации» философского знания, приближающими логику философского дискурса к логике социальных и управленческих практик?
Необходимость подобных опосредова-ний, по нашему мнению, обусловлена качественными сдвигами в уровне общей культуры и интеллектуального развития не только студенческой, но и любой современной аудитории. Кризис книжной культуры проявляется сегодня в неготовности и неспособности большинства обучающихся самостоятельно читать научные, а тем более философские тексты. Уход из сферы самостоятельного понимания развернутых сюжетных повествований «больших текстов» привел к деформации и частичной утрате способности к монологической речи и связанному с ней последовательному развитию мысли. Все большее число студентов обнаруживает снижение способности к абстрагированию, обобщению, неумение делать вывод из принятых ранее посылок, выявлять причинно-следственные связи событий и явлений. Распространение этих процессов, превращение их в часть повседневности привело к примитивизации социальной ком- муникации, сведению ее к односложности и однозначности вопросов и ответов, что легко заменяет живой человеческий контакт общением при помощи «умных гаджетов».
Традиционно важнейшей формой презентации философии была демонстрация ее методологических функций, а также познавательных возможностей сформированного у ученого или специалиста самостоятельного профессионального творческого мышления. Как правило, такая демонстрация осуществлялась в рамках изучения общего курса философии в вузах, а также при чтении специальных курсов по философии на философских факультетах и отделениях. В начале XXI в. актуальность методологических функций философии очевидна лишь для узкого круга ученых и специалистов. Общие курсы по философии сегодня также не ориентированы на методологическую проблематику.
Отказавшись от академических форм подачи философских тем и сюжетов, мы оказываемся перед необходимостью апеллировать к проблемному полю антропологии, аксиологии, праксиологии, этики, связывать его с повседневном опытом аудитории, типичными жизненными ситуациями. Такая связь открывает возможности показывать, что сформированное философией самостоятельное критическое мышление личности может быть ее важнейшим жизненным ориентиром, снижающим риски, ослабляющим угрозы и возвышающим достоинство человека. И хотя технологии и практики критического мышления связаны со знаниями в области психологии, педагогики, риторики, социологии, его фундамент образуют философские представления и концепты. Важнейшим достоинством этого способа «погружения» в философию является его связь с анализом конкретных ситуаций, живого повседневного и профессионального опыта.
Обращенное на себя, критическое мышление приобретает черты рефлексивности. Нельзя не согласиться с М.Г. Зеленцовой и Е.С. Жарковой в том, что «сохранение онтологической целостности “Я” и преодоление кризисов идентичности требуют от человека постоянной познавательной и оценочной активности, направленной как вовнутрь, так и вовне – на окружающий индивида социальный мир и на других людей» [Зеленцова, Жаркова 2017, 86]. Излишне говорить о роли рефлексивности сознания и мышления в развитии творческого потенциала личности и ее самосовершенствования, в реализации намеченных планов, построении карьеры. В условиях нелинейности протекания сложных процессов и растущей роли сознательного воздействия на них идея рефлективности как постоянного внутреннего мониторинга собственной деятельности, как элемента самоорганизации сложных систем приобретает новые смыслы.
Неслучайно в теории управления появилась стратегия «рефлексивного управления», ориентированная на отслеживание реакций управляемых на действия менеджеров, позволяющее своевременно корректировать ранее принятые решения и предупреждать возникновение сбоев в управляемой системе [Усов 2008; Фрейдина, Корох 2011]. Элементы рефлексивного управления включает в себя и корпоративная этика, представляющая собой использование «мягкой силы» неформальных норм и правил для открытого обсуждения положения дел в группе, рационального выбора варианта поведения и тем самым интеграции локальных социальных сообществ. Проникая в повседневную жизнь общности, нормы корпоративной этики хаби-туализируются, усиливают роль неформальных норм и правил, стимулируют развитие внутренней самоорганизации.
В современной социальной и политической теории обсуждается проблема «рефлексивной модернизации», трансформирующая доктрину рефлексивного управления отдельными общностями и организациями в стратегию комплексного макросоциального изменения целых обществ [Козлова 2014; Тесленко 2014; Браславский 2023]. Тем самым приватный характер рефлексии, ее погруженность в интимный мир самосознания личности уступают место способности субъектов к публично-политическому, институционально организованному осуществлению самоанализа и корректировки собственных действий. Обусловленная глобальными информационно-технологическими сдвигами динамика современной социальной реальности формирует потребность во взаимосвязи рефлексивно ориентированного сознания и мышления человека с реализацией его жизненных и социальных стратегий.
Поскольку обсуждение проблем критичности и рефлексивности нашего сознания и мышления возможно как в приватном, так и в гласном, публичном формате, постольку важно видеть особенности и возможности каждого из них. Формат интеллектуального клуба привычен для нашей аудитории еще с советского времени. Таковы, например, киноклубы, литературные клубы, иные клубы художественно-критической направленности. Важно, чтобы эта традиция в эпоху воинственной манифестации массовой, репродуктивной культуры не была отброшена или забыта. Немногие центры профессиональной, креативной культуры (вузы, театры, музеи, библиотеки), опираясь на современные медиа-технологии, могут не только расширить аудиторию участников, сохранить прежние традиции, но и обогатить их на счет участия в дискуссиях профессиональных философов.
Если формат публичной дискуссии в интеллектуальном клубе известен в общественном мнении и легитимирован в культуре, то с приватным форматом дело обстоит сложнее. Многовековая традиция относит рефлексию исповедального жанра к феноменам религиозной духовности. Появившийся и достаточно распространившийся феномен личностного психологического консультирования поставил вопрос о возможности существования «светского исповедального жанра». Сегодня не только классическая психология, но и практики тренингов личностного роста и коучинга претендуют на статус «учителей жизни», открывающих путь к успеху и полагающих основные смыслы и ценности. Но потенциал философии на этой ниве несопоставимо больше, а предлагаемые ею решения гораздо глубже и содержательнее, чем рецептурные рекомендации сомнительного происхождения, получаемые в ходе сеансов и тренингов.
Диапазон возможного применения философского знания веками охватывал как проблемы частной жизни, так и вопросы публичного характера. Лишь в начале ХХ в. была проведена демаркация дисциплинарной структуры философского и психологического знания. Не пытаясь стереть эту дифференциацию и подменить психологию, хотим подчеркнуть, что сегодня нет никаких причин ставить под сомнение возможности философского знания в различных сферах личностного консультирования.
В современном обществе риска, в котором, с одной стороны, множатся попытки управляющего воздействия, а с другой – нарастает непредсказуемость условий, форм и перспектив бытия человека и общества, справедливо поднимается проблема упреждающего прогнозирования последствий инновационного развития. В отечественной философии уже не раз ставился вопрос о необходимости комплексной экспертизы программ и проектов уже на стадии их разработки или на ранних этапах реализации [Брызгалина и др. 2022]. В данном случае подчеркнем лишь один принципиально важный момент: эта экспертиза даст существенно большие результаты при включении в междисциплинарное экспертное сообщество философов.
Именно философия ХХ в. сформировала взаимодополняющие методологические подходы к комплексному анализу отдельных ситуаций и динамично протекающих нелинейных процессов, подчеркнув относительность получаемых истин, их неразрывную связь с определенным природным и культурным контекстом. Философские идеи критического мышления и рефлексивности имеют множество вариантов концептуализации процедур выбора и принятия решений в границах и на стыке конкретных наук, что позволяет увидеть множество сторон потенциальных и актуальных аспектов антропогенного воздействия на реальность. С.А. Горохов рисует масштабные перспективы философской экспертизы, которая «обусловлена формирующейся насущной потребностью в возникновении нового социального института, а именно экспертного института, который в рамках современного общества будет выполнять задачи экспертных оценок изменений, происходящих в других институтах: государства, образования, производства и так далее. Он должен не только давать оценки, но и предвосхищать их, регулировать, объединять в единое поле развития современного общества» [Горохов 2020, 55].
Особое значение имеют новые формы и методические приемы презентации философского знания в работе с будущими философами.
Ранее мы уже указывали на такие тормозящие образование и личностное развитие черты части сегодняшних студентов как невладение связной монологической речью, отсутствие навыков чтения философских и научных текстов, участия в дискуссиях, владения научным стилем изложения. Их деструктивное воздействие усиливается узостью кругозора и ограниченностью социального опыта.
Если мы сохраняем подготовку бакалавров-философов, то на первых двух курсах мы всерьез должны заняться коррекцией этих дидактических упущений. Сегодня эта работа ведется практически везде, но она носит несистемный характер и слабо ориентирована на специфику будущей профессии. В качестве модели ее оптимизации можно рассматривать опыт социологов, имеющих в своих учебных планах «Комплексный практикум по социологии» занимающий в ряде вузов до пяти семестров. Применительно к философии такой комплексный практикум мог бы включать семестровые курсы «Практикума категорий и понятий», «Практикума по риторике», «Практикума по аналитическому чтению философских текстов», а также «Практикума по академическому письму».
Лишь после этого (в конце второго курса) можно говорить о самостоятельном написании большинством студентов курсовых работ, научных докладов, осознанном выполнении других творческих работ. Классическая лекция не исчезает, но в эпоху торжества интернета и доминирования в методике видеоряда она приобретает новый облик. Авторская лекция – это либо авторский комментарий к сложным вопросам и темам, требующим детальной проработки, иногда в режиме диалога с аудиторией, либо оригинальная интерпретация темы или раздела, построенная на полемике лектора с оппонентами. Высшей по сложности формой аудиторной работы является сегодня семинар, построенный на обмене мнениями и полемике (диалоге) самих студентов.
Но при сохранении двухступенчатой модели высшего образования есть и иной сценарий философского образования – перенос его исключительно на высшую ступень (магистратуру), которая должна стать трехлетней. Первая ступень высшего образования может быть любой: на ней устраняются основные дефекты школьного образования, мешающие развитию личности. Одновременно за эти четыре года приобретается определенный социальный и исследовательский опыт, играющий роль своеобразного культурно-нравственного пропуска для занятий такой мировоззренческой дисциплиной как философия.
Завершая обсуждение взаимосвязи новых форм презентации философского знания с современной социокультурной ситуацией, важно подчеркнуть, что параллельно с решением этих задач должен измениться и сам субъект философствования. Это, как пишет В.В. Скоро-богацкий, «субъект, который решается философствовать и который, согласно Гегелю, представляет собой начало философии» [Скоробо-гацкий 2021, 72]. Но сегодня субъект философствования не может быть сведен лишь к определенному личностному типу, погруженному в силу внутренней мотивации в стихию свободного мышления о всеобщих началах бытия безотносительно к образовательным программам и учебным дисциплинам.
Выходящее за пределы учебных аудиторий философское просвещение элиты, среднего класса, ядра профессиональных сообществ и молодежи требует объединения усилий философов разных специализаций и направлений, создания философских коллективов, способных решать сложные мировоззренческие и социально-технологические задачи. Экспертиза, способная влиять на настроения и планы элиты и общественного мнения, требует создания междисциплинарных объединений ученых, способности философов интегрироваться в них и формировать единый метанаучный дискурс, ясность и убедительность которого сочеталась бы с научно-философской содержательностью. Наконец, должно сформироваться новое поколение исследователей и преподавателей, которое будет способно принять эстафету своих учителей и предшественников, сохранить и умножить духовный потенциал не только профессиональной корпорации философов, но и всего российского общества.
Список литературы Философское образование и новые формы презентации философского знания в современном обществе
- Браславский 2023 - Браславский Р. Энтони Гидденс и цивилизационный анализ: модерн между рефлексивностью и культурой // Социологическое обозрение. 2023. Т. 22, № 1. С. 147-174.
- Брызгалина и др. 2022 - Брызгалина Е.В., Вархо-тов ТА., Зайцев Д.В., КозыревА.П., Кротов А.А. Требуются эксперты XXI века! // Вопросы философии. 2022. №1. С. 8-18.
- Горохов 2020 - Горохов С.А. Философская экспертиза // Этнодиалоги: альманах. 2020. №21 (59). С. 52-61.
- Гусейнов 2017 - Гусейнов А.А. Будущее без будущего // Глобальный мир: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего: XVII Международные Лихачевские научные чтения, 1820 мая 2017 г. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2017. С. 63-66.
- Зеленцова, Жаркова 2017 - Зеленцова М.Г., Жаркова Е.С. Проблема идентичности: философские аспекты // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 9 (83). С. 85-89.
- Козлова 2014 - Козлова В.А. Антропологические основания теории рефлексивной модернизации Э. Гидденса // Дискуссия: журнал научных публикаций. 2014. № 6 (47). С. 23-26.
- Лекторский 2017 - Лекторский В.А. Вызовы современного глобального мира: чего ждать, на что надеяться, что делать // Глобальный мир: системные сдвиги, вызовы и контуры будущего: XVII Международные Лихачевские научные чтения, 18-20 мая 2017 г СПб.: Изд-во СПбГУП, 2017. С. 110-114.
- Лосев 1990 - ЛосевА.Ф. Страсть к диалектике: Литературные размышления философа. М.: Сов. писатель, 1990.
- Скоробогацкий 2021 - Скоробогацкий В.В. Возможна ли философия в ситуации безвременья, или об условиях философствования в мире, в котором мы живем // Философия сегодня: ценности, перспективы, смыслы: сб. материалов Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 19-21 ноября 2020 г.). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. С. 66-72.
- Тесленко 2014 - Тесленко О.А. У. Бек: рефлексивность модернизации и становление глобального общества риска // Вестник Тверского ГУ. Серия «Философия». 2014. Вып. 2. С. 228-243.
- Усов 2008 - Усов В.Н. Рефлексивное управление: философско-методологический аспект: авто-реф. дис.... д-ра филос. наук. Екатеринбург, 2008.
- Фрейдина, Корох 2011 - Фрейдина Е.В., Корох А.А. Развитие методологии рефлексивного управления и инструментария когнитивной функции // Вестник НГУЭУ 2011. № 2. С. 27-51.