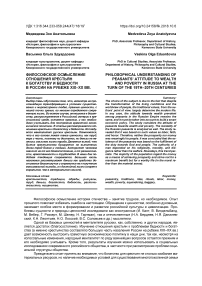Философское осмысление отношения крестьян к богатству и бедности в России на рубеже XIX-XX вв
Автор: Медведева Зоя Анатольевна, Васькина Ольга Эдуардовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Выбор темы обусловлен тем, что, несмотря на произошедшую трансформацию в условиях существования и мировоззрении людей, прежние ценности, с нашей точки зрения, во многом определяют современную жизнь. Во всяком случае, отношение к богатству, распространенное в Российской империи в крестьянской среде, остается прежним, и его необходимо учитывать для построения грамотной экономической политики. В статье рассматривается отношение крестьян к богатству и бедности. Исследуется менталитет русских крестьян. Отмечается, что в его основе лежат такие ценности, как труд, вера и честь, поэтому ни достаток, ни деньги не являлись смыслом жизни народа. Делается вывод, что бытие крестьянства базируется на выполнении долга перед Богом и людьми. Авторитет человека зависит не от его благосостояния, а от религиозности, нравственности и трудолюбия. В наши дни подобная тенденция сохраняется. Большая часть населения рассматривает деньги как средство достижения благополучия и стремится не к получению максимальной выгоды, а к достойной жизни (скорее в моральном, чем в материальном смысле).
Крестьянство, традиции, обряды, ритуалы, труд, деньги, богатство, бедность, расточительство, нищенство
Короткий адрес: https://sciup.org/149133679
IDR: 149133679 | УДК: 1:316.344.233-058.244(47)“18/19” | DOI: 10.24158/fik.2018.10.6
Текст научной статьи Философское осмысление отношения крестьян к богатству и бедности в России на рубеже XIX-XX вв
Философское осмысление истории отечества – занятие трудное, но необходимое. Опыт прошлого помогает избежать ошибок в настоящем. Обращение к ценностям, особенно духовным, занимает особое место в формировании и развитии российской культуры и цивилизации. Проблемы сущности и природы ценностей исследовали как иностранные (И. Кант, В. Виндельбанд, М. Вебер, Г. Риккерт, М. Шелер, Н. Гартман), так и отечественные (Н.А. Бердяев, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Н.О. Лосский, B.C. Соловьев и др.) мыслители.
Одной из базовых ценностей в менталитете русских, как, собственно, и других народов, является достаток (благосостояние). Изучение отношения крестьян к проблемам бедности и богатства (а именно крестьянство составляло большую часть населения России на рубеже XIX–XX вв.) дает возможность выстроить грамотную экономическую политику в наши дни, так как, несмотря на колоссальные изменения, народный менталитет по ряду важнейших вопросов остается прежним и его необходимо учитывать. Кроме того, результаты изучения можно использовать в социальных исследованиях современного российского общества, в частности при рассмотрении проблем социальной структуры общества.
Прежде всего стоит принять во внимание, что богатство для крестьян не столько изобилие материальных ресурсов, но наличие необходимых условий для существования многопоколенной семьи и общества в целом. Подобное отношение вызвано тем, что большая часть страны находится в зоне рискованного земледелия. Рассчитывать на те же урожаи, что в Италии, Испании, Португалии, Франции, русские крестьяне не могли. Целью тружеников являлось не увеличение дохода или стремление к роскоши, а достижение определенного уровня жизни, который позволяет удовлетворить насущные потребности. Заметим, что стремление к обогащению, увеличение прибыли возможны лишь в том случае, если в стране существует развитый рынок, какого в России XIX в. не было.
Традиционное понимание богатства на Руси неоднозначно. С одной стороны, богатство, понимаемое как сытость, справность, даже зажиточность, при условии получения его собственным трудом оценивалось положительно. Подобное отношение к богатству присутствует у польских и украинских крестьян, о чем свидетельствует обширный фольклорный материал [1]. С другой стороны, чрезмерность, излишество и капитал, получаемые в результате спекуляции или другим нечестным путем, порицались. Это объясняется тем, что богатство в данном случае не приносит душевного покоя и морального удовлетворения («Богатство нажить - в аду быть», «Лишние деньги - лишняя забота»).
Изобилие, даже излишек, в ряде случаев оценивали как запас на черный день, источник стабильности, будущего роста, безопасности и возможность обеспечить себе некоторую свободу в жестких рамках патриархального общества. Под богатством понимали прежде всего скот, урожай, а только потом деньги. Корова, например, почиталась как кормилица семьи («Корова на дворе, харч на столе») (В.И. Даль, «Пословицы русского народа», т. 2), ассоциировалась с богатством и достатком.
Богатая жизнь, в представлении крестьян, весела и беспечна, о чем свидетельствуют пословицы: «Простор богатому, как щуке в воде», «Не житье, а масленица», «Живет припеваючи», «Одна рука в меду, другая в сахаре (или в патоке)», «Как в масле сыр катается», «Пьет пиво да мед, ничто его неймет», «Богатому и умирать не хочется, зачем богатому умирать?» [2].
Хотя и отмечалось, что «бедность не порок», бедняков зачастую считали лодырями и пьяницами, у которых ничего не было из-за собственной нерачительности и безразличия ко всему, в том числе к своему имуществу.
Человек, лишившийся средств из-за собственной лени, безделья, праздности и пассивности, подвергался насмешкам, ему не сочувствовали. С симпатией относились к тем, кто разбогател в результате стараний, усердия, терпения, хотя крестьяне и отмечали, что «от трудов своих сыт будешь, а богат не будешь».
Только личный труд мог обеспечить достаток и стабильность. М.С. Семенихина (1909) рассказывала: «Конечно, были и ленивые, неживые, как их называли, страни. Но их осуждали все. А ставили в пример людей работящих, честных, верующих, добрых. <...> У таких работящих людей и в доме был порядок и зажиток» [3, с. 103].
Однако даже честный труд не должен быть изнурительным, изматывающим, подрывающим здоровье. Соразмерность труда с возможностями человека была желательным условием его существования. Тяжкий труд компенсировался праздничными и выходными днями. По данным министерства земледелия, на рубеже XIX-XX вв. праздников насчитывалось более 130 дней в году, из них 2,5 месяца выходных приходилось на время сельскохозяйственных работ - с апреля по сентябрь [4]. Пауза в работе давала возможность не только отдохнуть от непосильного труда, но и выполнить свой религиозный долг.
Крестьяне четко осознавали свою ответственность перед Богом. Менталитет русских крестьян основывался на понятиях «труд», «вера», «честь», они являлись центральными и определяли жизненный путь человека. Деньги отвлекали от Бога, порождали недоверие, вражду, эгоизм. Крестьянин работал не ради денег или увеличения богатства, а ради выполнения своего долга. Труд выступал главным средством спасения души и обретения Царства Божия. Взрослые заранее ориентировали детей не на денежное вознаграждение за их работу, а на удовольствие, которое она доставляет. У ребенка формировали понимание того, что только благодаря труду можно чего-либо добиться: «Что заработал, то и заслужил». Родители старались сделать труд радостным занятием. Чтобы заинтересовать ребенка и стимулировать его внимательность и интерес, взрослые клали репку в зерно для посева, которой ребятня охотно лакомилась. Вкусное угощение радовало ребенка и придавало ему сил, дальнейшая работа проходила с охотой.
Хорошо сделанная работа предполагала справедливое вознаграждение, и деньги в этом случае выступали как средство оценки количества и качества труда («Трудовая денежка всегда крепка»). Качественный труд всегда поощрялся. Существовала определенная градация мастерства: мастеру своего дела платили намного больше, чем простому работнику.
Однако и хорошая работа не всегда обеспечивала достаток, поэтому крестьяне прибегали к различным магическим приемам увеличения дохода: умывались водой, в которой лежали золотые и серебряные вещи, в Великий четверг; брались за монеты при первом куковании кукушки. Известный свадебный ритуал осыпания зерном, ношение в кошельке ореха с двумя ядрами также способствовали прирастанию богатства. Чтобы ребенок был богатым, его несли на кожухе на крещение в церковь и обратно. Перед венчанием молодые сидели на шубе, «чтобы богато жили», даже в летний зной обряжали невесту к венцу в шубу, «чтобы ей жить в приволье».
Одновременно считалось, что богатство – это происки дьявола, который прельщает людей золотом, покупая за богатство души («Не посадишь душу в ад – не будешь богат»). Хорваты, например, считали, что если положить при крещении монеты в пеленки младенца, то именно они, а не младенец будут окрещены. Ребенок станет весьма богатым, но душа его попадет в ад [5, с. 204].
Крестьянское хозяйство представляло собой механизм, в котором каждый элемент занимал определенное место, и нехватка чего-либо, в том числе и рабочих рук, негативно сказывалась на его состоянии. Бедность или невозможность удовлетворить насущные потребности человека и его семьи, крайние лишения, необеспеченность, нищета и нужда вызывали страх и опасения. Строго говоря, и богатство, и бедность рассматривались как отступление от должного, нарушение меры и нормы.
Достаток соотносился с возможностью удовлетворить насущные потребности и сочетался со стремлением иметь крепкую семью, пользоваться авторитетом в своей среде. Богатство и бедность в традиционной культуре характеризовали не отдельного человека, а семью в целом. Глава семьи единолично распоряжался семейной собственностью. Однако приданое, одежда и домашняя утварь являлись женской собственностью и передавались от матери к дочери. Статус и место женщины в семье определялись размером приданого. Хорошо обеспеченная невестка редко занималась тяжелым трудом, в отличие от бедной, она была более самостоятельной, пользовалась уважением [6, с. 205].
При замужестве дочери состоятельные родители, иногда и близкие родственники наделяли ее живностью. Эти животные считались собственностью брачной пары, при выделе она уводила их с собой. По этой причине снохи пытались конфликтовать при забое скота, чтобы сохранить женских особей своих животных. В неразделенных отцовских семьях невестки распоряжались маслом от своей коровы, яйцами от своих кур. Они могли их продавать, а деньги тратить на личные приобретения (мелкие украшения, шелковые нити и т. п.).
Ряд авторитетных исследователей отмечает, что доходы супругов не были общими. Муж распоряжался хлебом, скотом, инвентарем, т. е. хозяйством и домом. Утварь, посуда, одежда, лен, а также куры и корова принадлежали жене. Овцы являлись общими. Шерсть, полученная после стрижки овец весной, доставалась женщине, осенний состриг отходил мужику. Весьма интересно, что летом плата за поденную работу принадлежала жене, а сдельная – в большинстве случаев мужу, поэтому, как утверждает О.П. Семенова-Тянь-Шанская, бабы часто отказывались работать даже в самую горячую пору, когда платилась высокая цена за уборку хлеба: «Мне-то что, пропадай его (мужнины) деньги пропадом» [7, с. 125–126].
Для того чтобы девушка удачно вышла замуж и была хорошо обеспечена в будущем, семья заботилась не только о хорошем приданом, но и о красивых нарядах. Ей полагалось обзаводиться несколькими видами одежды: ежедневной, праздничной и подвенечной, кроме того, обычай требовал наличия нескольких полных костюмов. Например, в Вологодской губернии «…одеть к празднику свою дочь как можно лучше считается у крестьян такой необходимостью… что нередко крестьянин продает корову или несет в заклад до зимы свою шубу, лишь бы сделать дочери к празднику шелковое платье, а платья заводятся дорогие от 25 до 60 р.» [8, с. 30].
Многие отмечали, что подобные действия часто были не по карману для большинства крестьян. В Архангельской губернии в 1850–1860-е гг. праздничный костюм для девушки стоил примерно 25 р., что равнозначно стоимости жеребенка или хорошей коровы. В последующие годы отмечался рост цен на одежду и ткани. Доходы крестьян оставались весьма скромными. На сенокосных работах, например, за 2 месяца можно было заработать лишь около 5–10 р. [9, с. 31].
Как правило, родители искали «ровню» для женитьбы, принимая во внимание не только материальный достаток семьи жениха, но и его репутацию. Если в семье бездельничали, сквернословили, постоянно ругались, то молодому человеку отказывали, даже если он всем нравился.
Часто рука об руку с богатством шла скупость, что получило отражение в пословицах «Чем богатее, тем скупее», «И богатенек, да скупенек». У пожилых людей рачительность и экономность иногда выражались в склонности откладывать деньги на черный день из-за страха перед нищетой и голодом. В книге В. Бердинских приведены воспоминания К.Н. Шаромова (1917): «Дед-то у нас скупой больно был. Денег даже на одежу дочери не давал, все говорил, денег нет. А кто знал, что он копил. В лавке он работал, потом умер и ничего не сказал, что деньги где прячет. А потом ведь их случайно нашли, а реформа-то уже прошла, они и обесценились. Куча ведь целая! Ну че, куда девать-то их? Мы и решили ими стены оклеивать, а керенки-то большие были. Два раза избу оклеили! Столько их много было! Заместо обоев» [10, с. 102].
Вместе с тем расточительность, как и скупость, являлась пороком и нарушением моральных норм. Мотовство подрывало благосостояние не отдельного человека, но целой семьи. Не только неурожай, несчастья: смерть или тяжкая болезнь кормильца, падеж скота – приводили к обнищанию семьи, но и пагубное пристрастие главы семьи к спиртному.
Американский историк А. Кимбалл, проводивший исследование русской деревенской жизни, указывал, что кабак в XIX в. становился для многих центром притяжения. Там собирались, чтобы общаться, обсуждать новости. Мужики пили водку, и некоторые закладывали кабатчику последнее имущество. При этом они до последнего надеялись обрести и сохранить новую – лучшую жизнь [11].
В конце XIX в. крестьянская община расслоилась: бедняки составляли 20 %, зажиточные крестьяне (с тремя и более лошадьми и/или коровами) – около 20 %, остальное середняки – около 60 %. Стоит отметить, что понятия «кулак» и «середняк» условные, сами крестьяне делили себя, как отмечалось выше, на работящих и бездельников.
Уровень их жизни существенно отличался. Например, рацион питания, количество и качество пищи напрямую зависели от благосостояния крестьянской семьи. «Так, по данным корреспондента Этнографического бюро, потребление мяса в конце XIX в. бедной семьей составляло 20 фунтов, зажиточной – 1,5 пуда». На приобретение мяса в зажиточных семьях тратилось в 5 раз больше средств, чем в семьях бедняков. В результате обследования бюджетов 67 хозяйств Воронежской губернии (1893) было установлено, что расходы на приобретение пищи в группе зажиточных хозяйств составляли в год 343 р., или 30,5 % всех расходов. В семьях среднего достатка – соответственно 198 р., или 46,3 %. Эти семьи в год на человека потребляли 50 фунтов мяса, в то время как зажиточные в два раза больше – 101 фунт [12].
Качество пищи определялось не только уровнем доходов, но и отношением к процессу приготовления. Одна из не очень обеспеченных жительниц деревни вспоминала: «…Нам некогда было “химичить” у плиты. Взял, положил в печь, закрыл – и все готово. А рецептами делали в богатых домах, кому делать нечего было и было из чего готовить» [13, с. 112]. Понятно, что здесь присутствует оттенок негатива: зажиточные крестьяне рассматриваются как праздно живущие, не очень занятые и не обремененные заботами.
Сельские священники также питались весьма скромно: «Стол скудный. Молодому организму хотелось бы есть больше и лучше… Чай пить утром не получалось. В среду, пятницу – картофель нечищеный, капуста, огурцы. И все время без масла» [14].
Условия проживания крепких хозяев и менее обеспеченных крестьян также существенно отличались: богатые могли позволить себе каменный дом, бедные проживали в ветхих и убогих избах. Этнографическое бюро князя В.Н. Тенишева отмечало, что у зажиточного крестьянина «справная изба», необходимые хозяйственные постройки: теплые, просторные хлева для скота, амбары для хранения зерна и обязательно баня. У бедняков – старая избенка вместо дома и захудалый хлев, в котором одна лишь коровенка и три-четыре овцы. Бани, амбара и овина нет [15, c. 229].
Вообще крестьянская психология предполагала необходимость демонстрации благосостояния, показателем достатка являлись добротная фабричная одежда, настенные часы, хорошая посуда.
Нищие – крайняя степень бедности. Исследователи различают нищих (для которых это ремесло) и «побирающихся кусочками». А.Н. Энгельгардт отмечал, что у последних есть двор, хозяйство, коровы, лошади, овцы, у жены наряды, нет только в данную минуту хлеба. Т. е. для этих крестьян просить подаяние – временная вынужденная мера. Подобное действие не осуждалось общиной, потому что мир понимал нежелание мужика рушить целостность хозяйства. Ему помогали, так как знали, что в следующий раз в случае неурожая уже он окажет помощь и поддержку нуждающемуся.
Большинство крестьян негативно относились к «профессиональным нищим», не желавшим или не могшим работать в силу собственной лености или ущербности. Их поведение зачастую было назойливым, сопровождалось громкими навязчивыми просьбами. Все полученное «Христа ради» продавалось и в большинстве случаев пропивалось. Их образ жизни с позиций традиционной этики являлся аморальным, многие имели таких же «подруг», с которыми не только побирались, но и сожительствовали. Ложь и обман для подобных людей были естественным образом жизни. Нищие могли притворяться калеками, зарабатывая на сердобольности мирян огромные деньги и спуская их впоследствии в увеселительных заведениях. Некоторые из них, как и в наши дни, были связаны с преступностью. Так, например, 20–25 % общего числа осужденных в конце XIX в. преступников были не мирными тружениками, а нищими или бродягами [16].
Подводя итоги, можно отметить, что для крестьян богатство – это не нажива, не капитал, не прибыль сама по себе, а скорее имущество, позволяющее вести достойную жизнь, и доля, понимаемая как судьба, праведная жизнь, дающая возможность выполнить долг перед Богом и людьми. Т. е. крестьянское понимание богатства ориентировано не на материальные блага, а на моральные ценности.
Интересно, что культурная традиция, определяющая отношение к богатству и нужде, прошла через десятилетия и сохранилась поныне. Это нашло отражение в менталитете наших современников. Заложенное православием негативное отношение к богатству как стяжательству нашло поддержку в фольклоре и художественной литературе. В советское время партийная идеология указывала на несовместимость морального кодекса строителя коммунизма и наживы.
Обеспеченные люди, даже получившие доход честным путем, старались его не показывать. Лозунг социального равенства определял понятие общественной справедливости. Значительная часть советского народа разделяла ценности общинной жизни, желание выделиться из общей массы, в том числе уровнем благосостояния, не поддерживалось. Люди хотели иметь гарантированный доход и социальную защиту, а не обогащаться.
Сегодня подобная тенденция, несмотря на появление большого числа обеспеченных граждан, сохранилась. Исследования, проведенные в среде российских дошкольников, выявили, что дети не хотят быть бедными, но при этом подчеркивают, что деньги необходимо зарабатывать. Большинство опрошенных считают богатых скорее плохими, а бедных чаще хорошими [17], хотя и бедность, и богатство в целом оцениваются отрицательно (мы уже указывали на то, что это крайности, которые рассматриваются крестьянами как нарушение меры). Большинство населения желает жить по стандартам среднего класса. Деньги – не атрибут богатства, а средство достижения благополучия.
Ссылки:
Список литературы Философское осмысление отношения крестьян к богатству и бедности в России на рубеже XIX-XX вв
- Księga przysłow polskich (wybor) / wybor i redakcja J. Muras. Warszawa, 2004.
- Канаш Т.В. Отношение к бедности и богатству в польской, белорусской и русской культурах // Человек и культура. 2012. № 2. С. 63-105. DOI: 10.7256/2306-1618.2012.2.186
- Бердинских В. Русская деревня: быт и нравы. М., 2013.
- Платонов О. Русский труд [Электронный ресурс]. М., 1991. URL: www.booksite.ru/fulltext/plat/onov/index.htm (дата обращения: 06.09.2018).
- Толстой Н.И. Богатство // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. 1 / под ред. Н.И. Толстого. М., 1995. С. 203-204.
- Этнография чувашского народа / под ред. В.П. Иванова. Чебоксары, 2017.
- Семенова-Тянь-Шанская О.П. Жизнь «Ивана». Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний. М., 2010.
- Шангина И.И. Русские девушки. СПб., 2007. 352 с.
- Кимбалл А. Деревенский кабак как зародыш гражданского общества во второй половине XIX в. [Электронный ресурс] / пер. с англ. А. Каширин // Общественные науки и современность. 2004. № 12. С. 137-146. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/01/12/1214866646/Kimball.pdf (дата обращения: 09.10.2018).
- Безгин В.Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX - начала ХХ в.). М.; Тамбов, 2004. 304 с.
- Украинцев П., иерей. «Каков поп - таков и приход»: быт и семья сельского священника в конце XIX - начале XX в. [Электронный ресурс] // Московская сретенская духовная семинария. 2018. 4 апр. URL: http://sdsmp.ru/news/n7555/ (дата обращения: 06.09.2018).
- Быт великорусских крестьян-землепашцев: описание материалов Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии) / авт.-сост. Б.М. Фирсов, И.Г. Киселева. СПб., 1993. 472 с.
- Барлова Ю.Е. Бедность, нищенство и социальное призрение в общественно-политической мысли России XVIII-XIX вв. // Наука и школа. 2010. № 2. С. 118-122.
- Пьянкова С.Д., Зырянова Н.М., Баскаева О.В. Представления российских дошкольников о богатстве и бедности (1992-2010) [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электронный научный журнал. 2017. Т. 10, № 56. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2017v10n56/1520-pyankova56.html (дата обращения: 06.09.2018).