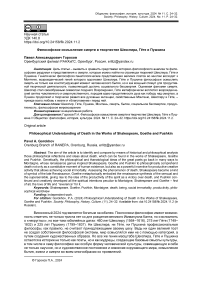Философское осмысление смерти в творчестве Шекспира, Гёте и Пушкина
Автор: Горохов П.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - выявить и сравнить средствами историко-философского анализа те философские раздумья и представления о смерти, которые можно найти на страницах творений Шекспира, Гёте и Пушкина. Генетически философско-танатологические представления великих поэтов во многом восходят к Монтеню, возрожденческий гений которого вдохновил Шекспира, Гёте и Пушкина философски осмыслить смерть не только как конституирующий момент человеческого бытия, но и как мощный стимул для продуктивной творческой деятельности, позволяющей достичь социального бессмертия. Оценивая феномен смерти, Шекспир стал своеобразным символом позднего Возрождения, Гёте метафорически воплотил возрожденческий синтез чувственного и сверхчувственного, породив идею продуктивности духа как победу над смертью, а Пушкин продолжил и творчески развил все духовные интенции, свойственные Монтеню, Шекспиру и Гёте, - прежде всего любовь к жизни и «благоговение» перед ней.
Шекспир, гёте, пушкин, монтень, смерть, бытие, социальное бессмертие, продуктивность, философское мировоззрение
Короткий адрес: https://sciup.org/149147062
IDR: 149147062 | УДК: 140.8 | DOI: 10.24158/fik.2024.11.2
Текст научной статьи Философское осмысление смерти в творчестве Шекспира, Гёте и Пушкина
В минувшем столетии смерть часто становилась предметом философской рефлексии, и это отнюдь неудивительно для века, в котором бушевали две мировые войны. Тем более актуальна проблематика смерти в нашу эпоху, когда человечество поставило себя на грань самоуничтожения в ядерной войне, оказавшись на самом краю страшной пропасти. Поэтому не перестанут быть значимыми для современных мыслящих людей те раздумья о смерти, которые можно найти в наследии великих гениев мировой философии и литературы. Эти раздумья иногда позволяют лишь покорно примириться с неизбежным, а порой и побуждают к активному действию.
Суть гениальности – именно в неисчерпаемости разгадок творений гениев. Каждая эпоха позволяет по-новому взглянуть на их наследие. Шекспира, Гёте и Пушкина волновали те же вечные философские вопросы, ответы на которые человечество искало, ищет и будет искать, в том числе и на вопрос: в чем смысл человеческой жизни и смерти?
Цель настоящей статьи – сравнить средствами историко-философского анализа те мысли и представления о смерти, которые можно найти на страницах творений великих поэтов и мыслителей. Объектом исследования выступает творческое наследие Шекспира, Гёте и Пушкина, а предметом – философские раздумья о смерти в их творческом наследии.
Методологической основой данного исследования являются философская компаративистика, сравнительно-исторический анализ и герменевтический метод как выявление и трактовка смыслов, скрытых в художественном творчестве.
Специальных компаративистских историко-философских работ, исследующих представления о феномене смерти у Шекспира, Гёте и Пушкина, в отечественной научной литературе не было, хотя имеются многочисленные исследования, затрагивающие проблему философского мировоззрения этих гениев мировой литературы. Назовем работы Г.Н. Волкова (1989; 1973), П.А. Горохова (2021а; 2021б; 2013), В.С. Непомнящего (2019), В.К. Кантора (2018), Л.Н. Когана (1985; 1996), К.А. Свасьяна (2001), А.В. Пустовита (2016).
В раздумьях философов смерть часто предстает как крайняя степень небытия, но это отнюдь не означает, что смерть – ничто. Ведь это «ничто» ожидает каждого из нас в той же степени, в которой и мы обречены встретить это таинственное «ничто». Истина о неизбежной смерти отнюдь не есть «ничто», поскольку именно мысли о смерти породили великие творения мировой литературы и искусства, наполненные глубоким философским смыслом, в которых их создатели пытались постичь смерть как конституирующий и смыслообразующий феномен человеческого бытия.
Человек осмысливает феномен смерти лишь через смерть других людей. Знаменитая теорема 67 из IV части «Этики» Б. Спинозы гласит: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни» (Спиноза, 1957: 575‒576). Видимо, Спиноза не совсем прав. Нельзя размышлять о жизни, не думая о смерти. Смерть – не только итог и завершение жизни, но и ее конституирующий момент. Любые раздумья о жизни приводят к мыслям о смерти, и наоборот. Обратимся непосредственно к анализу философских представлений о феномене смерти у Шекспира, Гёте и Пушкина.
К загадке смерти Шекспир обращался как поэт и мыслитель на протяжении всего творчества. Описывает Шекспир смерть по-разному, и ни одно из этих описаний не может оставить читателя или зрителя безучастными. Гибель молодых и здоровых людей на войне трагична во все эпохи истории. Это преступление перед естественным ходом вещей, преступление против божественных законов. Например, в хронике «Король Джон» французский герольд говорит о короле, который
Повергнул в слезы матерей британских,
Чьи сыновья лежат в кровавом прахе;
Тот, за кого у многих жен мужья
Теперь сырую землю обнимают.
(Шекспир, 1902, Т. 2: 124)
Монархи властны не только над жизнью, но и над смертью своих подданных, хотя жизнь им давали не они, а несчастные матери погибших солдат. Шекспир часто показывает смерть героев в восприятии других действующих лиц трагедий и исторических хроник. Смерть страшна прежде всего для окружающих героя людей. Причем используемая Шекспиром образность делает нарисованные им картины и сопровождающие их размышления вневременными и эталонными для восприятия смерти в последующей европейской культуре. Например, в другом месте хроники «Король Джон» Филипп Незаконнорожденный представляет смерть в образе страшного прожорливого чудовища, питающегося мертвой человечиной:
И смерть сама, булатными мечами
Свои клыки и когти заменив,
Летит на шум угрозы королевской
На груде трупов пиршество держать!
(Шекспир, 1902, Т. 2: 128)
Как писал А.Ф. Лосев в «Эстетике Возрождения», «гора трупов, которой кончается каждая трагедия Шекспира, есть ужасающий символ полной безвыходности и гибели титанической эстетики Возрождения» (Лосев, 1982: 604). Смерть является главным героем многих шекспировских творений, собирая в каждой трагедии щедрый урожай. Особенно показательна в этом плане трагедия «Тит Андроник», которая превосходит по количеству происходящих убийств и злодеяний все творения Шекспира. Но рискнем предположить, что даже шекспировской фантазии, породившей кровавые ужасы трагедии «Тит Андроник», вряд ли хватило бы, чтобы представить себе масштабы кровопролития и глобальное торжество смерти в ХХ столетии.
На страницах шекспировских шедевров можно найти раздумья о смерти во всех ее ипостасях – от смерти человека до обессиливания, истощения и смерти государства. Философски понимая смерть как конститутивный момент человеческой жизни, Шекспир устами Валентина говорит в своей комедии «Два веронца»: «Смерть разлучает нас с самим собой» (Шекспир, 2008: 232). Факт и смысл смерти оценивается Шекспиром как завершающий момент человеческой жизни, когда человек готовится предстать перед судом Вечности. В этот момент человек не только подводит итог прожитой жизни, но чаще всего сбрасывает маски и обнажает суть собственной души. В хронике «Ричард II» уходящий в небытие Джон Гонт, герцог Ланкастерский, с мудрой грустью говорит:
Речь умирающего, говорят,
Как полный звук, вниманье поглощает.
Где мало слов, там ими не сорят;
Кто в муках говорит, те не хитрят.
И слушают смолкающих навеки
Скорей, чем болтовню того, кто юн.
Смерть больше жизни значит в человеке:
Заката час иль звук последний струн, ‒
Сладчайшие, как яств последних сладость, ‒
Нам памятней, чем дней минувших радость.
(Шекспир, 2008: 366)
Увы, человек не в силах передать людям накопленную им мудрость в полной мере: смерть уничтожает не только тело, но и целые духовные миры. И даже поэты и мудрецы успевают обессмертить в своих творениях лишь часть своего духовного мира. Недаром лорд Тальбот в первой части хроники «Король Генрих VI» философски констатирует всевластие смерти над судьбами людей:
Но умереть
Должны мы все, - монарху и вельможе
Последний час несет одно и то же.
(Шекспир, 1902, Т. 2: 304)
Смерть не делает социальных различий: смертны и всемогущий диктатор, и последний нищий. Разумеется, у диктаторов и прочих «сильных мира сего» есть надежные средства отсрочить свидание со смертью, но и они не в силах его избежать. Мировая история полнится поучительными примерами страшных и трагических смертей людей, наделенных властью. Убийство президента Кеннеди в 1963 г., страшная смерть Каддафи в 2011 г., недавняя гибель президента Ирана Раиси – все эти исторические события прекрасно иллюстрируют философские раздумья Шекспира, облеченные в поэтическую форму. И не только правители, но и простые смертные порой взвешивают смерть исключительно на весах политической целесообразности или же чувств долга и любви. В первой части хроники «Генрих VI» Джон Тальбот говорит своему отцу:
Так ты беги, а я погибну с честью.
Ты славный вождь, и жизнь нужна твоя;
Безвестен я - так гибнет пусть моя.
Ребенка смерть французов не прославит, Меж тем с тобой и счастье нас оставит.
(Шекспир, 1902, Т. 2: 288)
Человек всегда достаточно зрел для того, чтобы умереть. Ребенок и взрослый, подросток и старик – все мы движемся к смерти, ибо бег времени неумолим. Герцог в пьесе «Мера за меру» на слова Клавдио «надеюсь жить, готов и умереть» в ответ отчеканивает: «Да, думай так, тогда и смерть, и жизнь покажутся приятней» (Шекспир, 1999: 654). В комедии «Как вам угодно» (название в переводе А. Соколовского, сейчас же более употребительно «Как вам это понравится») есть такие размышления о жестоком времени, сокращающем человеческие часы на этой земле. Эти слова Шекспира заставляют вспомнить о «бытии к смерти» (Sein zum Tode) М. Хайдеггера – экзистенци-але, обнаруживающем онтологическое измерение человека в его труде «Бытие и время»:
Можно
Понять легко, как движется вся жизнь.
Стояла стрелка час тому назад
На девяти, а через час покажет
Одиннадцать! Вот так и мы растем
Из часа в час, а после будем так же
Из часа в час лежать и гнить в земле!
И в том вся жизнь!
(Шекспир, 1902, Т. 1: 398)
Порой именно смерть избавляет человека от страданий и разочарований в жизни, когда известная еще римлянам болезнь tadium vitae (отвращение к жизни) властно овладевает человеком и заставляет его искать утешение от земных бедствий именно в смерти. Эдгар, сын Глостера, в трагедии «Король Лир», видя несчастного отца, ведомого нищим, мудро говорит:
О превратность света!
Ты примиряешь человека с смертью,
Через тебя нам ненавистна жизнь!
(Шекспир, 1999: 790)
Современник Шекспира, знаменитый Фрэнсис Бэкон, в труде «Опыты, или Наставления нравственные и политические» констатировал: «Люди страшатся смерти, как малые дети потемок, и, как у детей, этот врожденный страх усиливается сказками, так же точно и страх смерти»1. Именно страх смерти заставляет человека продолжать свое существование, даже если оно кажется невыносимым. Жизнь поддерживается нежеланием встретить за последней чертой еще более невыносимые страдания. Гамлет в монологе «Быть или не быть» считает, что лишь страх перед «неисследованной страной, откуда не возвращался еще ни один путешественник», удерживает людей от немедленного и добровольного ухода из жизни со всеми ее горестями.
И несчастный ослепленный Глостер в трагедии «Король Лир» размышляет о праве человека уйти из жизни, ставшей невыносимой:
Неужели страдальцам нет надежды
Искать спасенья в смерти? Неужели
Теперь нам нет прибежища от бедствий,
От самовластья гордого?
(Шекспир, 1999: 797)
Порой герои Шекспира иронично рассуждают о смерти. Вспомним монолог Фальстафа, трусливо притворившегося мертвым на поле боя: «Черт возьми, я вовремя прикинулся мертвым, а то бы этот шотландец сделал из меня шотландскую селедку. Прикинулся? Неправда. Совсем я не прикинулся. Мертвые – вот это притворщики. Они притворяются людьми, когда перестают быть ими. А прикинуться мертвым, будучи живым, – это не притворство, а сама искренность. Одно из украшений храбрости – скромность. Это украшенье и спасло меня» (Шекспир, 2008: 444). Здесь Фальстаф философствует в лучших традициях античной софистики, которые в ХХ столетии столь успешно переняли постмодернисты.
Но чаще всего смерть в изображении драматурга трагична, ибо с ее приходом бесследно исчезают целые человеческие вселенные. Смерть особенно страшна и противоестественна, когда из жизни уходят дети, оставляя здесь, на земле, родителей, для которых невозможно никакое утешение. Шекспир сам пережил такую трагедию, потеряв сына Гамнета. Убитый горем Капулетти, не зная еще, что Джульетта лишь кажется мертвой, в IV акте говорит несостоявшемуся жениху Парису:
Лежит она, цветок, сраженный смертью.
Смерть ‒ зять теперь мне, смерть ‒ наследник мой;
С моею дочерью она венчалась:
Умру ‒ и все оставлю ей! И жизнь
И все житье-бытье ‒ добыча смерти!
(Шекспир, 1999: 247)
Как известно, Шекспир читал и чрезвычайно ценил «Опыты» Монтеня. Видимо, правы некоторые ученые, которые полагают, что Шекспир обязан Монтеню философским наполнением своих лучших творений. Именно в Монтене Шекспир нашел близкого по духу художника и мыслителя, обладавшего сходным с ним мировоззрением. В содержательной работе «Долг Шекспира Монтеню» Г. Тейлор подсчитал, что только в 1603 г. Шекспир «заходил в лес Монтеня» 750 раз (Taylor, 1968: 34), а в «Гамлете» мы видим не менее 50 идей, почерпнутых бардом у великого француза. Французский мыслитель писал в ХХ главе первой части своих «Опытов»: «Неизвестно, где поджидает нас смерть; так будем же ожидать ее всюду. Размышлять о смерти ‒ значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь – не зло» (Монтень, 2002: 164–165). Эту мысль в своих творениях творчески разовьет Шекспир, а за ним – Гёте и Пушкин в целой галерее созданных ими художественных образов.
Шекспир в своем творчестве не мог не затронуть проблему бессмертия. Нортумберленд в трагедии «Ричард II» говорит: «Нет, и в пустых глазницах смерти вижу мерцанье жизни» (Шекспир, 2008: 368). Человек на протяжении отпущенных ему лет своими делами может оставить след в истории и продолжать жить в людской памяти, обретя тем самым социальное бессмертие. Смерть неизбежна, но именно она порой заставляет человека делать все возможное, чтобы победить небытие. Эти мысли Шекспира о смерти и социальном бессмертии, во многом вдохновленные Монтенем, были впоследствии развиты и плодотворно использованы Гёте и Пушкиным.
Иоганн Вольфганг Гёте оставил раздумья о смерти не только на страницах своих художественных произведений, но и в письмах, заметках и задокументированных беседах. Так, своему секретарю Иоганну Эккерману Гёте говорил: «Пусть человек верит в бессмертие, у него есть право на эту веру, она свойственна его природе, и религия его в ней поддерживает. Но если философ хочет почерпнуть доказательства бессмертия души из религиозных преданий, дело его худо. Для меня убежденность в вечной жизни вытекает из понятия деятельности. Поскольку я действую неустанно до самого своего конца, природа обязана предоставить мне иную форму существования, ежели нынешней дольше не удержать моего духа» (Эккерман, 1986: 275).
Здесь для Гёте продуктивная энергия человеческого духа побеждает смерть, даруя бессмертие творениям рук человеческих. В день похорон поэта Кристофа Мартина Виланда (1733– 1813) Гёте говорил о том, что в природе никогда не исчезают высшие душевные силы, поскольку сама природа никогда не расточает своих сокровищ. Деятельная энергия человеческого духа не исчезает, а его творения имеют шанс обрести бессмертие.
Гёте говорил, что смерти можно бояться или не бояться, но придет она неизбежно. Смерть в своих произведениях Гёте описывал часто, и эти картины волнуют душу до сих пор. В драме «Гец фон Берлихинген», которая принесла молодому поэту первый крупный успех, оруженосец Франц, не выдержав вида страданий Адальберта Вейслингена, которого сам и отравил, выбрасывается из окна замка в реку Майн. С мыслями о свободе умирает и сам рыцарь Гец.
Ровно в полночь совершает самоубийство герой знаменитого романа Вертер, не выдержав мук несчастной любви. Утром слуга находит еще дышащего молодого человека на полу, зовет лекаря, но уже поздно. Эта вымышленная смерть вызвала целую эпидемию реальных самоубийств. Нам, людям прагматичного века, в это трудно поверить, но это так. Гёте даже пришлось через несколько лет написать стихотворное предисловие к роману, в котором он просил читателей не следовать примеру Вертера.
В трагедии «Фауст» перед читателем проходит целый ряд смертей, художественно и философски осмысленных Гёте. Гибнет от руки Фауста, направляемой Мефистофелем, брат Гретхен Валентин. Гретхен не только становится невольной убийцей матери, но и убивает плод греховной любви. Гибнет от руки палача сама возлюбленная Фауста. Трагична судьба Филемона и Бавкиды – аллегорий старого уютного мира, гибнущего под напором безжалостного будущего. В наши дни история о смерти по вине Фауста несчастных стариков обернулась зловещим пророчеством, объясняющим неизбежность и объективность глубинных процессов, которые происходят в современном мире и могут привести к гибели классической культуры и всей европейской цивилизации.
И хотя Мефистофель говорит Фаусту: «Ну, смерть, однако, гость не очень-то приятный» (Гёте, 1977: 94), для Гёте не существует трагической стороны жизни человека как жизни всеобщей. Недаром в первой части трагедии вызванный Фаустом дух говорит:
Смерть и рожденье –
Вечное море,
Жизнь и движенье
В вечном просторе…
(Гёте, 1977: 57)
Введенное Гёте понятие продуктивности служит и ключом к пониманию проблемы смерти и бессмертия. Гёте полагал, что со всей серьезностью размышлять о бессмертии души могут лишь те, кому не удалась эта жизнь. Если бы их жизнь изменилась в лучшую сторону, то прекратились бы и бесплодные раздумья о бессмертии. Поэтому Гёте сказал Эккерману: «Чего только не наговорили философы о бессмертии! А что проку? Я не сомневаюсь: наше существование будет продолжаться, ибо природе не обойтись без того, что понимают под энтелехией. Но бессмертны мы не в равной мере, и для того, чтобы в грядущем проявить себя как великую энтелехию, надо ею быть» (Эккерман, 1986: 327). В этих словах – прямое указание на необходимость продуктивной, насыщенной, творческой жизни для достижения социального бессмертия.
Человеку необходим постоянный личный рост. Остановка в развитии означала бы, что больше не к чему стремиться, а это, по сути, равносильно смерти. Поэтому своей идеей продуктив- ности Гёте противостоит смерти и утверждает бессмертие: продуктивность творческого духа приводит к бессмертию души. Бессмертие может быть понято как соединение с идеальным, а смысл жизни заключается просто в самой продуктивной и деятельной жизни. И что такое смерть? Дает ли она шанс приобщившимся к мудрости перейти в новое состояние, в просторы иных миров?
Гёте считал, что сама смерть для мудреца – всего лишь символ. Недаром он писал в стихотворении из «Западно-Восточного дивана»: «И покуда не поймешь: смерть для жизни новой1 , хмурым гостем ты живешь на земле суровой». Отметим, что данный перевод Н. Вильмонта не вполне точен. Дословно: «Stirb und werde!» (Умри и стань!), то есть стань чем-то высшим! Сама смерть рассматривается здесь в традициях Аристотеля через энтелехию: даже окончание земного бытия не может победить продуктивную силу души. Потому истинная «продуктивность души» для Гёте – это неуспокоенность, вечная жажда деятельности по познанию себя и мира, стремление к совершенству. Именно такая деятельность и приводит к бессмертию.
В «Фаусте» Гёте выразил художественными средствами идею Иоганна Фихте о внутренней противоречивости субъекта деятельности. Гёте хорошо знал Фихте, неоднократно оказывал ему протекцию на своем посту чиновника и часто беседовал с ним. Идея о том, что сама противоречивость деятельности выступает источником непрестанного воспроизводства деятельности, видимо, обсуждалась этими мыслителями. Сама деятельность существует до тех пор, пока существует несоответствие между замыслом и реализацией. Смерть ассоциируется с удовлетворенностью и покоем. Главное лишь, чтобы деятельность, как подчеркивал Гёте, была подлинно продуктивной, а не суетливо-дьявольской.
Как известно, А.С. Пушкин был хорошо знаком с произведениями Шекспира и Гёте. Многие мотивы творчества английского и немецкого гениев впоследствии были использованы Пушкиным, в том числе и их философские размышления о смерти.
Творения Шекспира и первую часть «Фауста» Гёте Пушкин читал во французском переводе. Образ Фауста литературоведы порой сравнивают с лирическим героем произведений Пушкина, когда поэт с изрядной долей скепсиса относился к человеческим иллюзиям посмертного существования и стремился, как Гамлет у Шекспира или Фауст у Гёте, выбрать веру в жизнь или поддаться зову смерти.
На пессимистические раздумья Пушкина о смерти, как полном и окончательном конце личностного бытия, повлияло его знакомство с воззрениями атеистически настроенных мыслителей. Это видно из таких его стихотворений, как «Таврида», «Надеждой сладостной младенчески дыша…». В конце апреля-первой половине мая 1824 г. Пушкин писал к П.А. Вяземскому: «Читая Шекспира и Библию, Святый Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. Ты хочешь знать, что я делаю, – пишу пестрые строфы романтической поэмы – и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей2, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000 <…>, мимоходом уничтожая доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но, к несчастью, более всего правдоподобная» (Пушкин, 1958: 97).
Но «уроки чистого афеизма», которые тогда получил поэт, были основаны на богатой европейской литературной традиции. Пушкин, как до него Шекспир и Гёте, внимательно штудировал «Опыты» Монтеня. Эта книга была одним из главных источников и вдохновителей философских идей для писателей и поэтов Нового времени. И хотя в «Опытах» Монтень повторяет мысли эпикурейцев, которые станут столь близкими Шекспиру, Гёте и Пушкину, французский мыслитель пишет: «Конечная точка нашего жизненного пути – это смерть, предел наших стремлений, и если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя бы один-единственный шаг, не дрожа при этом, как в лихорадке? Лекарство, применяемое невежественными людьми – вовсе не думать о ней. Но какая животная тупость нужна для того, чтобы обладать такой слепотой!» (Монтень, 2002: 158).
Критики обнаруживают и сходство некоторых отдельных вещей Пушкина с философскими раздумьями Шекспира в великой трагедии «Гамлет». Как и принц Датский в своем самом известном монологе «Быть или не быть», лирический герой Пушкина также не побоялся бы расстаться с жизнью, если бы был уверен, что это приведет к разрешению жгучих вопросов бытия и возможностей его посмертного продолжения:
Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, ‒
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир…
(Пушкин, 2008: 206)
В основе размышлений Пушкина о смерти и конечности человеческого существования лежит гуманистическая традиция Возрождения, в рамках которой творили первостепенные для истории европейской философии фигуры ‒ Монтень, Шекспир, Гёте. Именно в их творениях земное бытие человека со всеми бедами, огорчениями и радостями показано как единственная истинная ценность, которая предопределяет отношение ко всему сущему на земле. Не только бессмертие души, но и земная жизнь представляет собой великую ценность. И Пушкин любил жизнь и умел ценить ее удовольствия: книги, беседы с друзьями, красоты природы, женскую красоту, смех детей. М.О. Гершензон, размышляя о страстной натуре поэта, в жилах которого, помимо крови русских воинов, текла и эфиопская кровь, в работе «Тень Пушкина» пишет: «Когда же пыл чувства разгорается в страсть, тогда легко опрокидывается и последняя, казалось, несокрушимая преграда – мысль о неизбежной смерти. Страсть в зените не может мыслить себя зависящей от каких-либо земных условий, например, от бренности тела; она уверенно знает себя безусловной, ничему не подвластной, следовательно, бессмертной» (Гершензон, 1997: 246‒247).
Пушкин боялся не смерти. Он был склонен к риску, а потому его довольно короткая жизнь была полна многочисленных дуэлей, как и у многих его героев. Но поэт понимал свое значение, о чем свидетельствует хотя бы стихотворение «Памятник» 1836 года. Этого значения совершенно не осознавала его легкомысленная супруга, что и привело, в конце концов, к трагедии. Пушкин не хотел, чтобы с его физической смертью погибла и его уникальная художественная вселенная, наполненная яркими образами, многочисленными замыслами и творческими раздумьями. Поэтому в редкие минуты разочарования и апатии он сочинял проникновенные элегии и маленькие шедевры, посвященные бренности человеческого бытия и обреченности на смерть.
Но даже в раздумьях о смерти у Пушкина встречаются оптимистические мотивы: Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.
(Пушкин, 2008: 300)
Жизнь продолжается, и человек имеет шанс обрести бессмертие не только в своих детях, но и в своем творчестве. Поэтому в стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829) поэт протягивает такую цепочку смыслов: смерть – новое поколение – память. Следовательно, связи поколений не прерываются. Тургенев поставит остро проблему «отцов и детей» для русской культуры, но, по сути, эта проблема существовала всегда, с самого зарождения цивилизации на земле. Несмотря на противоречия между поколениями, между ними наблюдается и культурная преемственность. Смерть не полностью разрушает людскую память, и самое лучшее в культуре народа передается как индивидуальная и социальная память. В памяти потомков человек остается, он не пропадает бесследно, в особенности, если он – творец. Именно в этом ключе Пушкин рассматривает проблему бессмертия.
В состоянии возвышенного оптимизма Пушкин высказывает мысли, схожие с теми, которые можно найти у Гёте о бессмертии продуктивного духа творца, по сути, совершенно забывая о грядущей смерти как о роковой неизбежности. Поэтому даже в количественном отношении у Пушкина намного больше произведений, в которых выражена идея бессмертия человеческой личности. В связи с этим М. Гершензон делает вывод: «Пушкин даже не заботится утверждать личное бессмертие <…> он просто исходит из аксиомы о личном бессмертии, эта аксиома составляет как бы невидимый, незыблемый в его уме фундамент, на котором он воздвигает свои художественные образы» (Гершензон, 1997: 247).
Пушкин описывает много смертей – порой романтически, но чаще всего эти описания полны трагизма. Смерть для Пушкина – одно из условий понимания всей предшествующей жизни героя, как «форма эстетического завершения личности», если вспомнить формулировку М. Бахтина. Алеко закалывает цыганку Земфиру и молодого цыгана. Умирает Борис Годунов, сломленный бременем власти и свалившимися на него и страну несчастьями. Сраженный подлой завистью, гибнет гениальный Моцарт. И по сей день бередит душу любого отца и наполняет ее страхом за собственных детей стихотворение «Эпитафия младенцу» (1829):
В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.
(Пушкин, 2008: 292)
Размышляя о смерти, Пушкин часто красиво и с мудрой грустью описывает кладбища и могилы. Все это способствует складыванию неповторимой художественно-философской картины в его шедеврах:
Стою печален на кладбище.
Гляжу кругом ‒ обнажено
Святое смерти пепелище
И степью лишь окружено.
И мимо вечного ночлега
Дорога сельская лежит,
По ней рабочая телега изредка стучит.
Одна равнина справа, слева.
Ни речки, ни холма, ни древа.
Кой-где чуть видятся кусты.
Однообразны и унылы
Немые камни и могилы
И деревянные кресты…
(Пушкин, 2008: 424–425)
Смерть каждого человека уникальна, и гении мировой поэзии умерли от разных причин, прожив отведенный им судьбой срок. Шекспир, видимо, умер в свой день рождения, 23 апреля 1564 г., в своем родном городе Стратфорд, от чрезмерного употребления спиртных напитков – именно такую версию о кончине барда передают некоторые его биографы. Гёте умер, как полагают, от воспаления легких, вызванного обычной простудой, 22 марта 1832 г. Гений русской поэзии, «наше все», как его назвал Аполлон Григорьев, умер 29 января 1837 г. после дуэли с французским авантюристом. Печально осознавать, какие великие утраты понесла русская культура. Если бы Пушкин дожил до возраста Гёте, его гений мог бы создать еще множество шедевров. А ведь это было вполне возможно, учитывая, что товарищ Пушкина по Царскосельскому лицею А.М. Горчаков (1798–1883), ставший министром иностранных дел и канцлером Российской империи, прожил 84 года.
Подведем итоги нашего исследования. Возрожденческий гений Монтеня философски вдохновлял и питал раздумья поэтов о жизни и смерти, о загадках природы и человеческого духа. Ни Шекспир, ни Гёте, ни Пушкин не избежали влияния Монтеня в собственном поэтическом и мировоззренческом понимании феномена смерти, хотя вдохновлялись и многими другими источниками. Гении мировой литературы философски осмыслили смерть не только как конституирующий момент человеческого бытия, но и как мощный стимул для продуктивной творческой деятельности, позволяющей достичь социального бессмертия.
Шекспир стал своеобразным символом позднего Возрождения. Вильгельм Виндельбанд, пусть и метафорически, считал Гёте своеобразным воплощением Возрождения, этого синтеза чувственного и сверхчувственного. В таком случае и Пушкин, как и Монтень с Шекспиром, является воплощением Возрождения, всех духовных интенций, свойственных этой прекрасной эпохе.
Размышления великих поэтов и мыслителей о смерти вызывают чувство «благоговения перед жизнью», как выразился Альберт Швейцер. И Карл Маркс, наследник немецкой классической философии и большой почитатель Шекспира, Гёте и Пушкина, в статье «Дебаты о свободе печати (апрель 1842 года)» прекрасно написал: «Пусть жизнь и умирает, но смерть не должна жить. Разве дух не имеет больше прав, чем тело?» (Маркс, 1955: 64). Духовную сущность великих поэтов и мыслителей смерть не смогла победить.
Список литературы Философское осмысление смерти в творчестве Шекспира, Гёте и Пушкина
- Волков Г.Н. Мир Пушкина: личность, мировоззрение, окружение. М., 1989. 269 с.
- Волков Г.Н. Сова Минервы. М., 1973. 256 с.
- Гершензон М.О. Мудрость Пушкина. Томск, 1997. 287 с.
- Гёте И.В. Фауст / пер. с нем. Н. Холодковского. В сокращении. Вступительная статья и примечания С. Тураева. М., 1977. 352 с.
- Горохов П.А. Философия истории А.С. Пушкина // Вестник Оренбургскго государственного университета. 2013. № 7. С. 96-104.
- Горохов П.А. Ens realissimum: Жизнь и философия Иоганна Вольфганга Гёте: монография. М., 2021а. 401 с. https://doi.org/10.12737/1064931.
- Горохов П.А. Экзистенциалы Шекспира: монография. М., 2021б. 218 с. https://doi.org/10.12737/1064939.
- Кантор В.К. Изображая, понимать, или Sententia sensa: Философия в литературном тексте. 2-е изд., перераб. М.; СПб., 2018. 832 с.
- Коган Л.Н. Гегель и Шекспир: проблема активности личности // Вопросы философии. 1985. № 6. С. 97-106.
- Коган Л.Н. Философия серьезная и веселая. Очерки о философии Уильяма Шекспира. Челябинск, 1996. 154 с.
- Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982. С. 624.
- Маркс К. Дебаты о свободе печати и об опубликовании протоколов сословного собрания // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения: в 30 т. 2-е изд. М., 1955. Т. 1. С. 30-84.
- Монтень М. Опыты: в 3 кн. Книга 1 / пер. с фр. А.С. Бобовича. М.; Харьков, 2002. 624 с.
- Непомнящий В.С. Пушкин. Русская картина мира. М., 2019. 688 с.
- Пустовит А.В. Пушкин и западноевропейская философская традиция // Семь искусств. 2016. № 8 (77); № 9 (78). [Без пагинации].
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М., 1958. Т. 10. 901 с.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в одном томе. М., 2008. 1216 с.
- Свасьян К.А. Философское мировоззрение Гёте. 2-е изд. М., 2001. 219 c.
- Спиноза Б. Этика // Б. Спиноза. Избранные произведения: в 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 456-604.
- Шекспир У. Полное собрание сочинений: в 5 т. / под ред. С.А. Венгерова. СПб., 1902. Т. 1, 572 с.; Т. 2, 578 с.
- Шекспир У. Полное собрание сочинений в одном томе / пер. с англ. М., 2008. 1248 с.
- Шекспир У. Сочинения: Хроники. Трагедии. Комедии. Сонеты / пер. с англ. М., 1999. 1168 с.
- Эккерман И.П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1986. 669 с.
- Taylor G.a Shakspere's Debt to Montaigne. N.Y., 1968. 66 p.