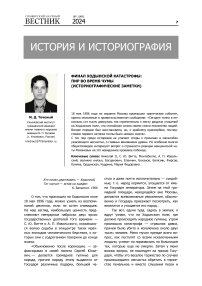Финал Ходынской катастрофы: пир во время чумы (историографические заметки)
Автор: Точеный М.Д.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (49), 2024 года.
Бесплатный доступ
18 мая 1896 года на окраине Москвы произошли трагические события, кратко описанные в правительственном сообщении: «Сегодня толпа в несколько сот тысяч двинулась так стремительно к месту раздачи угощений на Ходынском поле, что стихийною силою своею смяла множество людей. Вскоре порядок был восстановлен, но, к крайнему прискорбию, последствием первого натиска толпы было немало жертв». С тех пор среди историков не угасают споры о причинах и масштабах ужасающего несчастья, о главных виновниках драмы. Но особенно многих обществоведов интересует вопрос о странности реакции венценосной четы Романовых на это невиданное кровавое побоище.
Николай ii, с. ю. витте, монтебелло, а. п. извольский, великие князья, богданович, епанчин, боханов, балязин, фирсов, коняев, ордынская, кудрина, мария федоровна
Короткий адрес: https://sciup.org/14133096
IDR: 14133096
Текст научной статьи Финал Ходынской катастрофы: пир во время чумы (историографические заметки)
Кто начал царствовать — Ходынкой, Тот кончит — встав на эшафот.
К. Бальмонт. 1906
О том, что произошло на Ходынском поле 18 мая 1896 года, можно узнать из воспоминаний десятков, если не сотен очевидцев. На наш взгляд, наибольшую ценность представляют мемуарные наброски двух ярких государственных деятелей того времени — С. Ю. Витте и А. П. Извольского, оказавшихся волею судьбы в эпицентре таких мрачных эпизодов человеческого бедствия, о которых они с содроганием говорили до конца жизни.
«Обыкновенно после коронации, — зафиксировал в своей памяти Сергей Юльевич, — делается громадное гулянье для народа, причем народу этому выдаются от Государя различные подарки, большей ча- стью и даже почти исключительно — съедобные, т. е. народ кормится, угощается от имени Государя императора. Затем на этой громадной площади, находящейся вне Москвы, делаются всевозможные увеселения, обыкновенно и Государь приезжает посмотреть, как веселится и угощается его народ…
Так вот, едучи туда, садясь в экипаж, я вдруг узнаю, что на Ходынском поле, где должно происходить народное гулянье, утром произошла катастрофа — страшная давка, причем было убито и искалечено около двух тысяч человек. Меня мучил прежде всего вопрос, как поступят со всеми искалеченными людьми, успеют ли поразвозить по больницам тех, которые еще не умерли. Затем у меня возник вопрос, не последует ли приказ Государя, чтобы это веселое торжество по случаю произошедшего несчастья обратить в торжество печальное и вместо слушания песен и концертов выслушать на поле торжественное богослужение?» [6, с. 141].
Однако надежды на проведение некоей поминальной церемонии не сбылись (хотя на Руси с давних времен хорошо знали, что такое тризна). И потому далее С. Ю. Витте с сожалением отметил: «Вскоре приехали Великие князья, Государь, и, к моему удивлению, празднества не были отменены, а продолжались по программе: так, массой музыкантов был исполнен концерт под управлением известного дирижера Сафонова; вообще все имело место, как будто бы никакой катастрофы и не было. По-видимому, Государю дали дурные советы, и не нужно было быть особенно прозорливым, чтобы понять, что эти советы исходили от московского генерал-губернатора, Великого князя Сергея Александровича, женатого на сестре императрицы» [6, с. 142].
В насыщенной программе развлечений, посвященной коронации Николая II, значился более чем интригующий пункт — большой вечерний бал, который готовило французское посольство. Москвичи гадали, состоится ли он и примет ли в нем участие венценосная чета. С. Ю. Витте, умный и проницательный реформатор, не лишенный элементарного человеческого любопытства и тщеславия, понятно, решил побывать на этом большом танцевальном вечере. «Бал должен был быть, — размышлял он утром 18 мая 1896 года, — весьма роскошным, и, конечно, на нем должен присутствовать Государь император с императрицей. В течение всего дня мы не знали, будет ли отменен, по случаю происшедшей катастрофы, этот бал или нет; оказалось, что бал не отменен. Тогда стали предполагать, что хотя бал и будет, но, вероятно, Их Величества не приедут.
В назначенный час я приехал на этот бал, а вместе со мной приехал Д. С. Сипягин, будущий министр внутренних дел, и Великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. Как только мы встретились, естественно, заговорили об этой катастрофе, причем Великий князь нам сказал, что многие советовали Государю не приезжать на этот бал, но что Государь с этим мнением совершенно не согласен; по его мнению, эта катастрофа есть величайшее несчастье, но несчастье, которое не должно омрачать праздник коронации; Ходынскую катастрофу в этом смысле надлежит игнорировать…
Через некоторое время приехали Государь и императрица; причем первый контрданс Государь танцевал с графиней Монтебелло (жена французского посла. — М. Т. ), а Государыня — с графом Монтебелло. Впрочем, Государь вскоре с этого бала удалился» [6, с. 149].
Аналогичные впечатления о Ходынской трагедии вынес известный российский дипломат А. П. Извольский. Его рассказ об этих событиях более чем красноречив и правдив: «Я был русским представителем при Ватикане, и так как папа Лев XIII был представлен на коронации чрезвычайным посланником Аглиарди, то князь Лобанов, русский министр иностранных дел, просил и меня прибыть в Москву. Я остановился у моего кузена Муравьева, который был в то время министром юстиции, и каждый день я виделся с дядей моей жены графом Паленом, которому была поручена роль главного распорядителя на торжествах. Понятно, что я имел исключительный случай знать мельчайшие детали празднества и всего, что происходило за это время в интимной жизни двора.
Катастрофа произошла в очень ранний час и задолго до того, как император и его двор должны были прибыть на место торжеств… Даже теперь, по прошествии двадцати двух лет, я не могу без содрогания вспоминать зрелище, которое я увидел, прибыв на Ходынское поле, где происходило празднество: тела убитых, числом свыше трех тысяч, лежали перед помостом, на котором раздавали подарки… Могу засвидетельствовать, что Николай II был опечален происшедшим и первой его реакцией было желание прекратить празднество и удалиться в один из монастырей в окрестностях Москвы.
Это желание было предметом горячего обсуждения в кругах царской свиты, причем граф Пален поддерживал его и советовал императору строго наказать виновников, ответственных за происшедшее, и прежде всего Великого князя Сергея Александровича, дядю императора и московского генерал-губернатора… Другие, особенно Победоносцев (обер-прокурор Синода. — М. Т.) и его друзья, указывали, что это может смутить умы и произведет дурное впечатление на принцев и иностранных представителей, собравшихся в Москве… Эти советы последних — увы — возымели большой успех. Празднества продолжались» [9, с. 164].
Извольского А. П., как и С. Ю. Витте, неприятно поразило решение Николая II отправиться на бал во французское посольство: «Маркиз де Монтебелло и его жена, пользовавшиеся большой любовью в русском обществе, зная, что происходит в Кремле, ожидали, что императорская чета не будет присутствовать на празднестве, и предполагали отменить бал. Однако он состоялся, и я отчетливо помню напряженность атмосферы в зале. Усилия, которые делались императором и императрицей при появлении их на публике, явно отражались на их лицах.
Некоторые порицали французского посла за то, что он не проявил инициативы в отмене бала, но я могу удостоверить, что маркиз и маркиза были вынуждены склониться перед высшей волей, направлявшейся, к прискорбию, советами, о которых я уже упоминал» [9, с. 165].
Извольский А. П. завершает странички воспоминаний о коронации Николая II весьма четким выводом: «В конце концов некоторые из подчиненных князя Сергея Александровича понесли наказание, а он продолжал управлять древней столицей, население которой наделило его кличкой «князь Ходын-ский» в память о событии, приведшем из-за его небрежности к катастрофе. Этот печальный инцидент, которым сопровождалась коронация императора, рассматривался общественным мнением как дурное предзнаменование для царствования и для собственной участи императора» [9, с. 166].
Видимо, равнодушие, проявленное Николаем II и его супругой в дни скорби, явное нарушение ими общепринятых моральных норм поведения покоробили многих аристократов.
«Во время коронации, — писал по горячим следам событий директор Пажеского корпуса, генерал от инфантерии Н. А. Епанчин, — случилась ужасающая катастрофа на Ходынке, еще всем памятная; туда были вызваны войска, и, разумеется, я поехал. Навстречу в Москву тянулась длинная вереница подвод, нагруженных телами задавлен- ных людей, едва прикрытых холстом, брезентами, из-под которых висели ноги, руки…
Страшное зрелище. Государь хотел отменить торжества, но Великий князь Сергей Александрович настаивал, чтобы этого не делать. В тот же вечер был назначен бал во французском посольстве, и Государь танцевал кадриль с женой посла.
О Ходынке написано много, я ограничусь немногим. Приведу мнение статс-секретаря графа Палена, который производил расследование. Он считал главным виновником князя Сергея Александровича, как генерал-губернатора, и отметил в докладе, что вообще «не следует назначать на ответственные должности безответственных лиц», т. е. Великих князей, но голос его был «гласом вопиющего в пустыне», все оставалось по-старому» [7, с. 233].
Примечательны строки дневника монархистки черносотенного толка А. Богданович, посвященные событиям на Ходынке. В них тоже, как в мемуарах С. Ю. Витте, А. П. Извольского и Н. А. Епанчина, выплеснулось недовольство части аристократии поведением Николая II в дни похорон жертв коронации: «Стеблин-Каменский Е. С. (главный контролер по постройке Западно-Сибирской железной дороги. — М. Т. ) говорил, что ко времени народного гулянья не успели убрать с Ходын-ского поля все трупы задавленных. Вследствие этого, так как публика наезжала, не зная о случившемся, на виду у всех запихивали умерших под лавки балаганов, на которых сидел народ, смотревший на представления клоунов и другие зрелища. Многие, проходя на места, наступали на торчавшие из-под лавок руки и ноги…
Когда царь ехал на обед к Г. Радолину (послу Германии в России. — М. Т. ), народ ему кричал, что не на обеды он должен ездить, а на похороны. Возгласы «разыщи виновных» многократно раздавались из толпы при проезде царя. Народ, видимо, озлоблен» [3, с. 212].
Мемуары, запечатлевшие и общую большую картину небывалого бедствия, и горькие, удручающие детали «празднества» на Ходынке, стали основой для многих научных исследований. В них так же, как и в воспоминаниях, центральное место занимает вопрос, почему таким странным, совершенно бестакт- ным образом вел себя Николай II. Вот на что, например, обратил внимание видный советский историк Н. П. Ерошкин: «Только к вечеру 18 мая на Ходынское поле прибыла полиция, и то больше для того, чтобы разогнать фотографов и репортеров. Еще не убрали трупы, а туда под бравую музыку из оперы «Жизнь за царя» прибыла коляска с царем и царицей, окруженная густым эскортом собственного конвоя. Несмотря на то, что некоторые придворные предлагали прекратить торжество, царь и его приближенные сделали вид, что ничего не произошло… Один из главных виновников Ходынки — генерал-губернатор, Великий князь Сергей Александрович — предпочел устроить в этот вечер банкет для гвардейских офицеров в загородном ресторане «Стрельна»… Ходынка вошла в историю как воплощение бездарности, ничтожества, тупости, жестокости московской администрации и ее коронованного «хозяина» Николая II. События на Ходынском поле стали первой вехой кровавого царствования последнего императора Николая II» [8, с. 17].
В 1997 году В. Булдаков неодобрительно отозвался о реакции Николая II на кошмарные кровавые события: «После Ходынской трагедии император не мог сделать правильного хода в глазах общественности: следовало бы объявить траур, а не продолжать торжества коронации на балу» [5, с. 46—47].
В 2006 году В. Балязин пришел к заключению, что ни Николай II, ни царская семья в целом, когда «пожарные и военные врачи цепенели от вида множества страшно обезображенных мертвых тел», не заняли достойной и принципиальной позиции. От царя ждали четкого, недвусмысленного решения: «Или отменить все празднества и объявить траур, или, сделав вид, что ничего особенного не произошло, продолжать торжества как ни в чем не бывало… Категоричнее всех настаивала на прекращении всяческих дальнейших празднеств императрица-мать. Мария Федоровна потребовала примерно наказать московского генерал-губернатора, Великого князя Сергея Александровича. Однако в защиту этого виновника катастрофы выступили три его родных брата — Великие князья Владимир, Алексей и Павел». Все роскошные обеды и блестящие балы состоялись в точном соответствии с принятой программой торжеств. Приговор В. Балязина однозначен: семья Романовых, ведомая венценосной четой, продемонстрировала «глубокую аморальность» [2, с. 381—382].
Пожалуй, самую прямую, нелицеприятную и вместе с тем наиболее объективную характеристику действиям последнего императора во время Ходынской катастрофы дал в 2017 году С. Фирсов: «Коронационные торжества свидетельствовали о том, что молодой царь далеко не всегда может адекватно реагировать на события, восстанавливает против себя подданных и невольно содействует постепенному разрушению авторитета самодержавной власти, оберегать которую, по мысли Победоносцева, он должен был прежде всего…
То, что после катастрофы празднества не были отменены, потрясло многих. Танцы в день трагедии казались кощунством. Самодержавие в очередной раз показало себя как своеволие.
Торжества закончились, как и предусматривалось, 26 мая. Сразу после этого Николай II с супругой, Великим князем Сергеем Александровичем и Великой княгиней Елизаветой Федоровной уехали в имение московского генерал-губернатора. Во время отдыха император много купался, занимался верховой ездой, играл в лаун-теннис, беззаботно веселился с родственниками и друзьями семьи. В Петербург он вернулся 21 июня, а на следующий день приехал в Царское село. При чтении его дневника складывается впечатление, что император живет в двух мирах, оторванных друг от друга. Политика у него является негативным фоном личной жизни, фоном раздражающим, мешающим главному — семейному счастью» [12, с. 124—128].