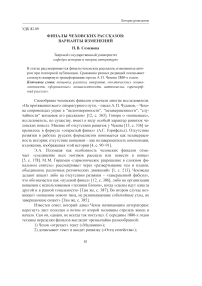Финалы чеховских рассказов: варианты изменений
Автор: Семенова Нина Васильевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются финалы чеховских рассказов, измененные автором при повторной публикации. Сравнение разных редакций показывает сложную жанровую трансформацию прозы А.П. Чехова 1880-х годов.
Концовка, развязка, итератив, "поэтические" эквивалентности, "формальные" эквивалентности, антиновелла, "ароморфный рассказ"
Короткий адрес: https://sciup.org/146281575
IDR: 146281575 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Финалы чеховских рассказов: варианты изменений
Своеобразие чеховских финалов отмечали многие исследователи. «На протяжении всего литературного пути, – писал А. П. Чудаков, – Чехова сопровождал упрек в “недоговоренности”, “незавершенности”, “случайности” концовок его рассказов» [12, с. 365]. Говоря о «концовках», исследователь, по существу, имеет в виду особый характер развязок чеховских новелл. Мнение об отсутствии развязок у Чехова [13, с. 336] закрепилось в формуле «открытый финал» (А.Г. Горнфельд). Отсутствие развязки в работах русских формалистов понимается как незавершенность истории; отсутствие концовки – как незавершенность композиции, изложения, изображения этой истории [4, с. 90–91].
Э. А. Полоцкая как особенность чеховских финалов отмечает «соединение всех мотивов рассказа или повести в конце» [5, с. 178]. М. М. Гиршман «гармоническое разрешение в сложном финальном синтезе» рассматривает через «развертывание тем и планов, объединение различных ритмических движений» [1, с. 213]. Чеховеды делают акцент либо на отсутствии развязки – «завершенной фабулы», что обозначается как «нулевой финал» [12, с. 386], либо на организации концовки с использованием «техники блоков», когда «сцены идут одна за другой и в разной тональности» [Там же, с. 387]. Во втором случае возникают «концовки нового типа, не развязывающие событийные узлы, не завершающие сюжет» [Там же, с. 385].
Известен совет, который давал Чехов начинающим литераторам: перегнуть лист пополам и потом от второй половины отрезать конец и начало. Сам он, однако, не всегда так поступал. С середины 1880-х годов техника переделки финалов выглядит чрезвычайно разнообразной:
-
1) Чехов «отрезает» текст («Мальчики»);
-
2) дописывает текст и вводит развязку («Отец семейства»);
-
3) снимает пуантировку в репликах персонажей («Пьяные», «Соседи», «Рассказ неизвестного человека»);
-
4) добавляет пуантировку в репликах персонажей («Неосторожность», «Выигрышный билет»);
-
5) снимает грубо комические пуанты («Дачники», «Житейские невзгоды», «Неудача», «Лев и солнце», «Шуточка»);
-
6) дописывает текст после того, как дана развязка («Тиф»);
-
7) из «неполной» развязки делает «полную» («Спать хочется») [6, с. 25, 29; 7, с. 26, 31];
-
8) снимает рамку в конце или сокращает ее в конце до минимума («Страшная ночь», «О любви»).
В некоторых случаях изменения финала оказываются настолько значительными и затрагивают такой большой объем текста, что во второй редакции меняется название.
Рассказ «Письмо» в первой редакции назывался «Миряне». В варианте, вошедшем в собрание сочинений, большая часть текста снята после пуантировки; пуант рассказа – дьякон комической припиской уничтожает эффект строгого письма к сыну. В рассказ «Володя» введено в конце описание самоубийства героя (в журнальной версии рассказ назывался «Его первая любовь»).
В рассказе «Пари» снята полностью третья глава. Хотя название сохранилось, оно изменило значение. В журнальном варианте это были два пари – соответственно вторая и третья главы.
Во второй главе банкир заключал пари с молодым человеком, который, чтобы разрешить некий юридический казус (что более безнравственно: смертная казнь или пожизненное заключение), согласился провести в заточении пятнадцать лет, не видя ни одного человеческого лица. Первое пари банкир проиграл, однако узник два миллиона не захотел взять, оставив письмо, где объяснил свое отречение от тех благ, которые могли дать ему деньги. Второе пари банкир снова проигрывает, так как существование абсолютно бескорыстных людей не получает подтверждения (узник, на которого банкир хотел сослаться, в этот самый момент возвращается и просит из причитающихся ему двух миллионов выдать хотя бы сто или двести тысяч).
В журнальном варианте на первый план выступает анекдотическое ядро, что подтверждается двойной пуантировкой – в первой и второй частях рассказа. В окончательной редакции в сильной позиции оказывается квазипритчевая мораль.
Отдельную группу составляют рассказы, в которых текст не «отрезается», а дописывается («Отец семейства», «Переполох», «Анюта», «Шуточка», «Накануне поста», «Тиф», «Лев и солнце», «Воры»). Эти рассказы, написанные в разное время, демонстрируют, как происходило оформление чеховской новеллы – «антиновеллы», по определению
Е. М. Мелетинского [3, с. 240, 242], или «ароморфного рассказа» – в терминологии А.П. Чудакова [12, с. 370].
Рассказ «Отец семейства», на первый взгляд, транслирует событийность жизни. «Неслыханное событие» здесь – инцидент в доме «отца семейства»: проигравшись, он срывает свою злобу на домочадцах, в первую очередь – на семилетнем сыне. В журнальном варианте новелла заканчивалась следующим абзацем: «Выспавшись после обеда, Жилин начинает испытывать угрызения совести. Ему совестно жены, сына, Анфисы Ивановны, и даже становится невыносимо жутко при воспоминании о том, что было за обедом, но самолюбие слишком велико, не хватает мужества быть искренним, и он продолжает дуться и ворчать…» [10, с. 115]. Дописанный Чеховым финал содержит резкое ударение – пуант. Слабые угрызения совести назавтра полностью исчезают, кардинально меняются и взгляды героя на воспитание.
В окончательной редакции рассказ имеет деструктивный финал [8, с. 5–12]; историю нельзя продолжить, так как ситуация исчерпана: «Федя, бледный, с серьезным лицом, подходит к отцу и касается дрожащими губами его щеки, потом отходит и молча садится на свое место» [10, с. 115]. Историю нельзя повторить с другим результатом, дописанный финал ясно на это указывает: благодушное настроение отца не может успокоить ребенка, заставить его забыть пережитое накануне. Описание внешности сына Феди в добавленном финале («бледный», «с дрожащими губами») составляет лексическую эквивалентность с предшествующим описанием: «Федя, семилетний мальчик с бледным, болезненным лицом <…> лицо его дрожит» [Там же, с. 113].
На повторяемость ситуации указывает и итеративное начало. Итератив, в понимании Ж. Женетта, – особая повествовательная техника, позволяющая многократно происходящие события «излагать один-един-ственный раз (или скорее за один-единственный раз)» [2, с. 143].
В рассказе «Отец семейства» итератив сосредоточен в первом абзаце и составляет 5 % текста в пересчете на количество печатных знаков. «Это случается обыкновенно после хорошего проигрыша или после попойки, когда разыгрывается катар. Степан Степаныч Жилин просыпается в необычайно пасмурном настроении. Вид у него кислый, помятый, разлохмаченный; на сером лице выражение недовольства: не то он обиделся, не то брезгает чем-то. Он медленно одевается, медленно пьет свое виши и начинает ходить по всем комнатам» [10, с. 112]. Женетт писал о том, что 10 % итератива в классическом романе – цифра совсем незначительная [2, с. 145]. Однако в новелле, именно в силу ее малого размера и «строгости» формы, роль словесного оформления существенно возрастает. Значимость итеративного сегмента в «Отце семейства» определяется его положением в начале рассказа – в сильной позиции текста. Слово
«обыкновенно» выступает знаком итератива, это обстоятельство узуаль-ности, которое обозначает «эмпирически наблюдаемое, регулярное повторение ситуации» [9, с. 21]. В присутствии этого первого фрагмента все повествование подвергается «как бы заражению итеративом», становится «псевдоитеративом». Женетт определяет «псевдоитератив» как «сцен<ы>, показанные как итеративные, тогда как вследствие богатства и точности деталей никакой читатель не может всерьез поверить, чтобы они происходили несколько раз без каких-либо изменений» [2, с. 147].
Включенная в систему повторений, история оказывается обращена не к событийности, а к процессуальности жизни. Однако в окончательной редакции на новеллизацию работает введение неожиданной развязки. В журнальной публикации парадоксальное сюжетное ядро, которое есть в окончательной редакции (отец, грубо третирующий ребенка, ведет себя назавтра как ни в чем не бывало), отсутствует; новеллистичность поддерживается заглавием, соответствующим жанру комической новеллы, – «Козлы отпущения», с подзаголовком «Посвящается многим папашам». При этом в обеих версиях рассказа использование итератива создает жанровый парадокс: то, что в новелле составляет «неслыханное событие», при условии повторения таковым больше не является.
В рассказе «Анюта», опубликованном впервые в журнале «Осколки» в 1886 году, Чехов дописывает финал, что позволяет выстроить систему эквивалентностей. Во-первых, это эквивалентность ситуаций. Начало рассказа: «В самом дешевом номерке меблированных комнат “Лиссабон” из угла в угол ходил студент-медик третьего курса, Степан Клочков, и усердно зубрил свою медицину» [10, с. 340]. В дописанном финале: «Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол» [Там же, с. 344].
«Из угла в угол ходил» / «заходил из угла в угол» – лексическая эквивалентность. Совпадает также читаемый вслух текст «зубрячки».
В начале рассказа: «Правое легкое состоит из трех долей… – зубрил Клочков. – Границы! Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4–5 ребер, на боковой поверхности до четвертого ребра… назади до spina scapulae…» [Там же, с. 340].
В финальном, добавленном, абзаце: «Правое легкое состоит из трех долей… – зубрил он. – Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4–5 ребер…» [Там же, с. 344].
Образованные при переписывании рассказа эквивалентности передают процессуальность жизни. При этом финальная фраза, слышная из коридора: «Григорий, самовар!» – представляет пуант в плане изложения: она высвечивает нелепость претензий, внушенных студенту-медику его другом-художником, – быть «эстетиком», проживая в меблированных комнатах.
В рассказе «Шуточка» Чехов полностью переписал финал. В первой редакции, написанной для журнала «Сверчок», финал содержал
«pointe в самом материале сюжета» и «пуантировку в ряду изложения» (эти два типа пуанта выделял М.А. Петровский [4, с. 67]. Последняя фраза: «Но тут позвольте мне жениться», – это комический пуант в плане изложения. Ему предшествовал комический же пуант в плане сюжета: «Я выхожу из-за кустов и, не дав Наденьке опустить рук и разинуть рот от изумления, бегу к ней и… Но тут позвольте мне жениться» [11, с. 492]. Использование фразеологизма с разговорной стилевой окраской («разинуть рот от изумления») снижает образ Наденьки, опоэтизированный в рассказе.
Во второй редакции, где изменен финал, снимаются оба пуанта, и это может означать ослабление новеллистических признаков. Однако та же самая утрата пуантов подтверждает правило параллелизма «малых действий» (акций) в коротком нарративе, сформулированное И.П. Смирновым в статье «О смысле краткости» [8, с. 5–12]. Параллелизм «малых действий» выводится из редукционизма новеллы – ее способности упрощать, схематизировать картину мира. По И.П. Смирнову, «акция, характерная для новеллы, не может быть повторена одним и тем же персонажем с разными итогами» [Там же, с. 6]. Это условие выполняется в рассказе «Шуточка» в варианте, включенном в собрание сочинений, и нарушается в журнальной версии. Герой во время катания, когда санки летят с горы, произносит одну и ту же фразу: «Я люблю вас, Надя!» И в финале эти слова доносит до Наденьки порыв ветра весной в саду, но только в окончательной редакции они опять остаются «шуточкой». История здесь не имеет развязки, связность текста устанавливают не только сюжетные элементы, но и «поэтические», или «формальные», эквивалентности (В. Шмид). Введение «постистории» еще больше проблема-тизирует событие: «самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни» [11, с. 704] для героини рассказчиком расценивается как малопонятный и оставшийся в прошлом казус.
открытый ун-т, 1992. 168 с.
Об авторе:
Список литературы Финалы чеховских рассказов: варианты изменений
- Гиршман М. М. Ритм художественной прозы. М.: Сов. писатель, 1982. 368 с.
- Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике: в 2 т. Т. 2. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1998. С. 308-434.
- Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. М.: Наука, 1990. 278 с.
- Петровский М.А. Морфология новеллы // Поэтика: Хрестоматия. М.: Рос. открытый ун-т, 1992. 168 с.
- Полоцкая Э. А. А.П. Чехов. Движение художественной мысли. М.: Сов. писатель, 1979. 340 с.
- Семенова Н.В. Анализ рассказа А.П. Чехова "Спать хочется": Учеб, пособие / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2011. 36 с.
- Семенова Н.В. Анализ рассказов А.П. Чехова "Спать хочется" и "Анна на шее" / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2020. 51 с.
- Смирнов И.П. О смысле краткости // Русская новелла. Проблемы истории и теории: Сборник статей. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1993. С. 5-12.
- Храковский В. С. Семантические типы множества ситуаций и их естественная классификация // Типология итеративных конструкций. Л.: Наука, 1989. С. 5-53.
- Чехов А.П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 4. М.: Наука, 1976. 552 с.
- Чехов А. П. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 5. М.: Наука, 1976. 704 с.
- Чудаков А.П. Ароморфоз русского рассказа (к проблеме малых жанров) // Поэтика русской литературы конца XIX - начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 365-396.
- Шкловский В. Повести о прозе. Размышления и разборы. М.: Худож. лит. 1962.336 с.