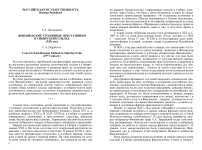Финляндские уголовные преступники в сибирской ссылке (XIX век)
Автор: Дегальцева Екатерина Александровна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 60, 2019 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи - известный специалист по истории сибирской ссылки дореволюционной России. В ее новой статье на основании опубликованных законов и ранее неизвестных документов сибирских архивов дается анализ ссылки уголовных преступников из Финляндии в Сибирь в XIX в. Впервые в отечественной историографии рассматривается эволюция законодательства, механизм финансирования, организация этапирования из Финляндии в Сибирь и жизни финляндских ссыльных в Сибири. Особое внимание уделяется вопросам адаптации финляндских ссыльных в Сибири, взаимодействию с другими группами ссыльных, отношение к ним местных властей и сибирского населения. Автор приходит к выводу, что в XIX в. сосланные из Финляндии в Сибирь лица, осужденные за уголовные преступления, вместе с другими ссыльными стали в крае источником дешевой рабочей силы для государственных заводов и рудников. Вместе с тем в правовом положении финляндских ссыльных в Сибири проявилось особое положение Финляндии в составе Российской империи: в законотворческом процессе учитывалось мнение финляндских властей, к ссыльным уголовным преступникам из Финляндии применялись более гуманные меры. В частности, им разрешалось селиться по этноконфессиональному принципу, давались налоговые льготы, поощрялось сохранение ими лютеранского вероисповедания. Благодаря жизни в обособленных поселениях финляндским ссыльным удалось сохранить этническую и религиозную идентичность. Наконец, доброжелательное отношение к ссыльным со стороны местного населения способствовало как выживанию финнов, так и передаче ими своим потомкам опыта выживания в суровых условиях сибирской ссылки.
Финны, финляндия, сибирь, министерство внутренних дел, тюрьма, ссылка, уголовный преступник, лютеранство, национальная идентичность, религиозная идентичность, социальная адаптация, александр i, николай i
Короткий адрес: https://sciup.org/149127036
IDR: 149127036 | DOI: 10.24411/2072-9286-2019-00009
Текст научной статьи Финляндские уголовные преступники в сибирской ссылке (XIX век)
Convicts from Russian Finland in Siberian Exile (19th Century)
В отечественной и зарубежной историографии преимущественно изучались различные аспекты политической ссылки в Сибири1. Исследованы вклад ссыльных в развитие края, их культурно-просветительная деятельность. Влияние же уголовной ссылки на историю края, ее состав, ее эволюция не стали до сих пор темой серьезного исследования.
В статье рассматривается уголовная ссылка из Великого княжества Финляндского: эволюция законодательства, правовой статус сосланных, их социальный состав, тяжесть совершенных преступлений, образ жизни в ссылке, адаптация к условиям чужого края, устойчивость ментальных установок, сохранение национальной и религиозной идентичности, отношения с местным населением.
* * *
Ссылка была основным видом наказания за государственные, уголовные, религиозные и другие преступления. В русском уголовном законодательстве она применялась, начиная с конца XVI в., а особенно широко с XVII в. В XVII-XVIII вв. в Сибирь в основном направлялись «изменники и преступники», стрельцы, работные люди, беглые крестьяне, пленные. Управление ссылкой была возложена на Сибирского генерал-губернатора и губернские учреждения2.
Первые ссыльные иностранцы появились в Сибири в первой половине XVII в. Ни тогда, ни позже этот чужеродный контингент не вызывал у местного населения сочувствия. В начале XVIII в. местные жители презрительно относились к пленным шведам, попавшим в край во время Северной войны. Ни одна женщина не хотела идти замуж за «поганого обливанца», все смотрели на них, как 6
на дикарей. Правительство, отправлявшее шведов в Сибирь, разъясняло через Синод, что брак с ними безгрешен, и швед не может «опоганить православной женщины». Но положение пленников к лучшему не менялось. Шведы, оказавшиеся в Томске, жаловались, что местные жители выгоняли их из квартир, выбрасывали на улицу все вещи, осыпали бранью. Обращение к начальствующим лицам не давало шведам никакой защиты, даже от них те получали «брань и пощечины»3.
С новой силой сибирская ссылка стала развиваться в XIX в. С 1807 по 1812 гг. сюда было сослано более 10 тыс. человек, а с 1824 г. - ежегодно более 11 тыс.4 В XIX в. из иностранцев здесь появляются финны и поляки, ставшие теперь подданными Российской империи.
В 1826 г. Государственный совет утвердил постановление «О порядке следствия и суда по преступлениям, чинимым в Финляндии российскими обывателями и в России обывателями Финляндии»5. Предписывалось судить преступников в тех местах, где ими было совершено преступление, независимо от государственной принадлежности. Если финны, совершившие преступление и судившиеся в России, не знали русского языка, то «место производящее суд, обязано дать ему переводчика... блюсти за ходом следствия и в особенности пещись о том, чтобы подсудимый воспользовался всеми выгодами судопроизводства на основании местных законов и постановлений»6.
Для привилегированных сословий вводились специальные правила. Приговоры по ним, особенно в отношении российских подданных, осужденных по законам Финляндии, «подвергшихся лишению звания или чести, или телесным наказаниям, лишения жизни», не приводились в исполнение без утверждения их российским императором7. В России это были потомственные и личные дворяне обоего пола, духовенство (священники и их жены), купечество 1 и 2 гильдии обоего пола, а в Финляндии - дворяне, духовенство и чиновники, имеющие «на звание Высочайшие грамоты», а также служащие и отставные офицеры финляндского войска8.
Вскоре, 21 апреля 1826 г, был принят «Манифест о ссылке в сибирские губернии на работы в горные заводы финских преступников, подпавших по законам оного края к смертной казни, но от оной Всемилостивейше освобождено»9. В день выхода манифеста генерал-губернатор Финляндии граф А.А. Закревский издал собственное распоряжение «Касательно осужденных к ссылке в сибирские губернии на работы в горные заводы финских преступников»10. В рамках этого законотворчества была упразднена Комиссия Финляндских дел и учрежден Статс-секретариат Великого княжества Финляндского11.
Идея замены смертной казни мужчинам за тяжкие преступления ссылкой в Сибирь принадлежала финляндскому Сенату и генерал- губернатору Финляндии графу Ф.Ф. Штейнгелю. Эта просьба поступила Александру I от финляндского Сената еще 20 июня 1818 г. по поводу осужденных на вечное заключение.
Карательная политика государства лавировала между неуклонным следованием жестоким законам и необходимостью сохранять баланс правовых отношений с Финляндией, которая, входя в состав Российской империи как генерал-губернаторство, хотя и имела свое законодательство, однако должна была соблюдать российское Уголовное уложение. Николай I в связи с этим писал, что «во всех таких случаях, в коих Уложение определяет смертную казнь, составляет предмет живейшей нашей заботы»12.
Перед принятием решений, касающихся финляндских преступников, в Государственно совете обычно предварительно заслушивались мнения финляндского Сената и генерал-губернатора Финляндии. Более гуманные меры, предлагаемые властями Финляндии, нередко поддерживались, тем более, если преступление не нарушало «общего существования спокойствия государственного, безопасности престола и Святости Величества».
Николай I, избавляя финляндских преступников от смертной казни, ссылал их на вечную каторгу в Сибирь. Позаботился он и о месте ссылки: «осуждение вместо того преступников сих, по телесном наказании, к заточении на вечную публичную работу, доколе будут подвергаемы оной в самой Финляндии и крепостях ее, имел бы неминуемо и для общего порядка вредное действие»13. Таким образом, спустя 8 лет уже Николай I удовлетворил просьбу бывшего правителя Финляндии Ф.Ф. Штейнгеля, и все те, кому смертная казнь была заменена пожизненной ссылкой, стали ссылаться в Сибирь, в «состоящие на восточной стороне Уральского хребта губернии»14.
Ссылке в Сибирь подвергались самые злостные преступники, которые отказывались каяться в своем преступлении. Хотя, бывало, что этот отказ нес в себе доказательство невиновности человека. Российскому же императору было виднее. Если мужчина по законам Финляндии приговаривался к смертной казни и был помилован российским императором, то, чтобы избежать ссылки в Сибирь, он должен был покаяться, чтобы остаться в Финляндии на каторжных работах, к которой осуждался кроме телесного наказания. Однако если преступник отказывался каяться и «отрекся от признания и прошения перед миром прощения в преступлении своем», требовалось «немедленно отсылать осужденного под строжайшим присмотром в отдаленные сибирские губернии для употребления в публичные работы на горных заводах»15.
Перед каторгой финские заключенные получали наказание «прутьями 40 парами по три удара каждою»16. В назидание другим о самом телесном наказании, которое пришлось выдержать преступнику на родине, о церковном покаянии и их причинах велено было объявлять с кафедры в том приходе, где было совершено преступление. 8
31 августа 1826 г. вышел указ Сената «О распоряжениях для препровождения в Сибирь финляндских преступников»17. В связи с этим, первые приговоры состоялись уже в конце 1826 - начале 1827 гг., а с 1828 г. в Сибири появились первые финские ссыльные. Большую часть из них составляли крестьяне и «работные люди», осужденные за убийство18. У многих было по две статьи: убийство и грабеж. Встречались среди ссыльных солдаты и матросы. Так, 30-летний Иоганн Сундберг, рядовой 1-го Финляндского флотского экипажа, попал на каторгу за зверское избиение своего квартирмистра.19 Он был сослан в Иркутскую губернию.
* * *
Путь до места ссылки был не близкий. Этап, который учреждался для препровождения в Сибирь финских преступников, состоял из 1 офицера, 2 унтер-офицеров, 1 барабанщика, 25 рядовых пеших солдат и 4 конных казаков. В течение недели все они были четыре дня в действительном походе, совершая от 80 до 130 верст. В начале XIX в. партии ссыльных насчитывали по 60-70 человек, а с 1823 г. - до 200 человек и более20. Утомляемость конвоя была причиной многочисленных побегов в пути следования.
Большинство ссыльных прикреплялись к Екатерининскому и Боровлянскому (Тобольская губерния) винокуренным заводам. Хотя некоторые, например Ларс Гольм, Иоганн Эстергольм, Андрей Томас Нилкон, Эрих Ноберг и Иоганн Хелк, так ослабевали в пути по этапу, что не могли работать и «причислялись на собственное пропитание» в близлежащие волости21. А 20-летний Андерс Иогансон Лаукалла даже не добрался до Сибири: в марте 1843 г, через 3 месяца после приговора, он умер в Клинской больнице (Московская губерния)22.
Вообще кормовыми деньгами финские ссыльные снабжались только до Санкт-Петербурга, а далее все финансовые издержки за все время их более чем 5-тысячекилометрового пути ложились на ведавшее тюрьмами и ссылкой Министерство внутренних дел, затем возвращавшиеся из финской казны один или два раза в год.
Принятый еще в 1822 г. Устав о ссыльных разрешал им жениться на местных женщинах, «ежели они согласятся»25. К сожалению, не удалось найти сведений о числе заключенных финнами в Сибири браков, однако известно, что в 1832 г. к своим мужьям, находящимся здесь в неволе, прибыло на поселение в Тобольскую губернию 1 100 женщин. Среди них были и финские женщины24.
Финские преступники распределялись по Томской, Тобольской, Енисейской и Иркутской губерниям на горные и винокуренные заводы. Однако тяготы долгого пути приводили к большой смертности ссыльных и их неспособности по мере доставки на заводы к производительному труду. Они попадали в особую категорию, именуемую в официальных полицейских документах как «неспособные».
Такого рода ссыльные селились в деревнях и сами добывали пропитание. Некоторые из них, используя эту возможность, совершали побеги. Так, в декабре 1836 г. Родион Ананьин, этапированный из Финляндии в Тобольский приказ о ссыльных (был создан по «Уставу о ссыльных» 1822 г, ведал распределением ссыльных на поселение или каторгу), был приписан к Екатерининскому винокуренному заводу, «из которого за неспособностью выпущен в Тюкалинский округ» 25. Только в конце 1843 г. власти забеспокоились в связи с его отлучкой: «уволен на р. Обь, оттуда не возвратился и объявлен в розыск»26. Сбежал из горного завода Иркутской губернии и Израель Шиблом. Он попал в Сибирь в возрасте 25 лет по приговору земской канцелярии Выборгской губернии.
* * *
Возраст финляндских осужденных за уголовные преступления составлял от 17 до 43 лет27. Самый юный, 17-летний крестьянин Михель Эклунд, сосланный на каторгу за умышленное убийство в 1835 г. на Краснореченский завод (Томская губерния), сумел продержаться там менее двух лет и сбежал28. Впоследствии он так и не был пойман. Однако большинство сбегавших все-таки ловили.
В ведомости финляндских преступников, прибывших на каторгу в Иркутскую губернию в 1844 г, значится крестьянин Элиас Исаксон Эопала. В этот раз он получил наказание в виде каторжных работ за побег из Сибири. Попался он в Санкт-Петербурге летом 1843 г. и уже в начале 1844 г. работал на рудниках Восточной Сибири29.
Самым распространенным местом приписки финнов являлся Успенский винокуренный завод, построенный в Тюменском уезде Тобольской губернии купцом Походяшиным в 1771 г. Уже в 1779 г. завод стал казенным, и основным рабочим контингентом на нем стали ссыльные. Так, зимой 1842 г. туда поступили молодые финские преступники: 23-летний рабочий Исаак Самсон Мара из Вазаской губернии, зверски убивший в своей деревне звонаря, и 22-летний крестьянин Эрих Туомол из Нюландской губернии, который умер почти сразу по прибытию на завод.30 Трудом хилых ссыльных завод было не поднять и вскоре, в 1846 г, он был сдан в аренду купцу А.Ф. Поклевскому-Козелл.
Подобно этим молодым людям и многие другие финны, проделавшие долгий путь и достигшие места ссылки, прибыв на заводы, были лишены всяких сил работать на них; некоторые умирали спустя пару месяцев. Местное начальство, видя неспособность истощенных людей к тяжелому физическому труду на горных или винокуренных заводах, отправляло их в близлежащие селенья.
Со второй половины XIX в. власти стали создавать новые поселения специально для ссыльных из Финляндии, Так, деревня Хельсинки (1863 г.) пополнила омскую колонию ссыльных, а деревня
Верхний Суэтук (1857 г.) - минусинскую. К концу XIX в. финнов в составе населения Сибири насчитывалось 2 182 человек (0,04 %). Более всего их было в Тобольской губернии (1 057 человек), Енисейской губернии (421 человек) губернии и Забайкальской области (211 человек)31.
Финнов, вследствие перенаселения Рыжкове - основной и единственной лютеранской колонии в Сибири, - начали селить в деревне Чистая Колмаковской волости (Омский округ). До 1857 г. подобная практика размещения ссыльных финнов-лютеран вместе с русскими была широко распространена в Сибири. Однако национальные противоречия между финнами, эстонцами и латышами в Рыжкове заставили власти организовать новые поселения ссыльных лютеран в Западной и Восточной Сибири по национальному принципу.
Инициаторами миграции из Рыжкове выступили пять финских крестьянских семей во главе с Ю. Кульдемом. Но только в 1846 г. Енисейский гражданский губернатор В.К. Падалка разрешил им переселиться в Минусинский округ. В 1847 г, чтобы избежать национальных конфликтов с финскими ссыльными, эстонцы основали собственную колонию в Шушенской волости Минусинского уезда в деревне Верхний Суэтук. Однако с 1854 г. в колонию активно заселяли и финнов, поэтому многие исследователи именуют эту колонию финской, отмечая, что вследствие преобладания эстонцев, финны в Верхнем Суэтуке перенимали эстонские традиции и обычаи32.
Иркутский дивизионный проповедник Карл Бутцке посетил Верхний Суэтук в 1851 г. и впоследствии всячески содействовал концентрации там ссыльных лютеранского вероисповедания, стараясь расселять их по этническому принципу. Пастор Карл Коссман (впоследствии генеральный суперинтендент и вице-президент Московского консисториального округа) назначенный на место иркутского дивизионного проповедника в 1856 г, официально обратился к Енисейскому гражданскому губернатору В.К. Падалке с просьбой об объединении всех лютеран в одной сибирской колонии и направлении в нее последующих ссыльных. В том же году Генеральная Евангелическо-лютеранская консистория подала прошение министру внутренних дел С.С. Ланскому, чтобы протестанты направлялись из Тобольского приказа о ссыльных только в лютеранские колонии. Консистория также просила, чтобы всем пленным протестантам, уже сосланным в Восточную Сибирь, было бы разрешено переселиться в одну колонию, а до тех пор назначить в каждую из колоний с лютеранским населением кистера (причетника) и светского школьного учителя. Духовным сопровождением верующих лютеран должен был заняться, по их мнению, сам Иркутский дивизионный проповедник33.
После личной встречи пастора Коссмана с генерал-губернатором Восточной Сибири М.С. Корсаковым такое разрешение было получено, и в 1869 г. был образован лютеранский приход Омской коло-
НИИ.
В свою очередь сибирское начальство сетовало, что в Сибири есть немного таких селений, к которым можно было «приселить» ссыльных34. Прикрепленные к селам, измученные этапом и каторгой, они не могли выполнять тяжелые сельскохозяйственные работы, а вследствие этого не способны были уплатить наложенные на них подати. Местные жители редко брали их на работу и они кочевали из одного села в другое, берясь за работу «из одного хлеба или проживали праздно со вредом для старожилов»35. В 1832 г. Сибирский комитет доносил императору Николаю I, что ссыльные «по развратному поведению нередко изобличались в воровстве, мошенничеству и побегах, к удержанию коих от сего принимаются со стороны местного начальства нужные меры»36.
Само сибирское начальство, понимая, что одни полицейские меры тут бессильны, предлагало правительству разрешить выдачу принадлежащих ссыльным денег, поступивших осенью и зимой, облагать податями только с 1 июля, а летом - с 1 января. Эти предложения были утверждены, и на прошении сам Николай I размашисто начертал: «Согласен»37.
По прибытии в сибирские волости уже с 1 января ссыльные должны были платить подати наравне с крестьянами и еще по 50 коп. - в тюремную систему Министерства внутренних дел, при этом они освобождались от повинностей. Не заплатившие вовремя подати отдавались за приличную плату и содержание в работу старожилам. Уже в мае 1826 г. вышло Положение Сибирского комитета «О выдаче поселенцам из собственных их денег при водворении ссыльных и о времени обложения их податями»38. Оно предписывало строжайший контроль и надзор над ссыльными, пока те не обзаведутся хозяйством. Для налаживания хозяйства отводился 5-летний срок. Если в течение него ссыльнопоселенец обзаводился хозяйством, то он причислялся к крестьянам и поступал под обыкновенный земский надзор. Первые три года существовала льгота по податям и 20 лет от рекрутства. Если ссыльный смог обзавестись собственным хозяйством, то он получал обратно средства, которые имел перед отправкой этапом в Сибирь, однако если за 5 лет он не смог завести хозяйство, то должен был платить положенные подати и его правовой статус не менялся. Часто ссыльные финны просили у начальства отлучки на промыслы, постоянно нуждаясь в средствах.
Сетования на преступность ссыльных в Сибири или их влияние на местных жителей были сильно преувеличены. Показатели преступности в крае в середине XIX в., когда число ссыльных заметно увеличилось по сравнению с 1830-ми гг, были сравнительно ниже, чем в других губерниях. Так, в мае 1854 г. во всей Томской губернии было совершено 2 убийства и 2 самоубийства, тогда как в Московской губернии за этот же период - 67, Тверской - 49. В июле 1855 г. в Томской губернии было совершено
2 убийства и 5 самоубийств, в Тобольской - 25, а Тверской и Пермской - 58 и 86 соответственно39.
* * *
Местные власти никогда не могли определить точное количество ссыльных в Сибири.
Так, генерал-губернатор Западной Сибири И.А. Вельяминов в апреле 1833 г. жаловался, что Сибирскому комитету вот уже более 5 лет не поступают полные сведения по ссыльным как по Восточной, так и по Западной Сибири40.
Начальство тех местностей, где проживали финские уголовные преступники, сосланные в Сибирь, должно было каждые полгода через тюремную систему Министерства внутренних дел посылать в Финляндию ведомости о финляндских преступниках с указанием происходивших с ними перемен. Генерал-губернатор Финляндии, в свою очередь, отправлял эти сведения на прежние места проживания ссыльных. Однако на самом деле эти ведомости содержали неполные данные, многие финские фамилии были исковерканы до неузнаваемости, а, начиная с 1840 г, они не содержали сведений о «происходящих со ссыльными переменах», во многих случаях данные о ссыльных были неизвестны.
Так, Иоганн Карлов Фореберг, фальшивомонетчик, решением Тобольского приказа о ссыльных 25 октября 1835 г. из Тобольской пересыльной тюрьмы был отправлен в Иркутскую губернию, но оттуда сведений о «поступлении его в работу» не было доставлено до 1840 г. Возможно, 47-летний мужчина сбежал по дороге или, скорее всего, не дожил до конца пути. И прибывшие из Финляндии по этапу в Тобольскую губернию (в селения, расположенные недалеко от современного Омска) Василий Касаткин (в 1834 г.) и Родион Ананьин (в 1836 г), будучи неспособными работать на горных заводах, в конце 1830-х гг. были отправлены на сплавные работы на реку Обь, однако по их окончании не вернулись и были объявлены в розыск. По донесениям Тобольского губернского жандармского управления от 21 декабря 1843 г, отправленным в Министерство внутренних дел, они все еще считались в «неизвестной отлучке».41
Финны убегали, как правило, по несколько человек, чтобы выжить в сибирской тайге. По донесениям Департамента полиции исполнительной МВД, нередко ловили по 4-7 беглецов «за одну поимку»42. Иногда местные жители сами укрывали беглых, что являлось уголовным преступлением.
Самая многочисленной группой являлись ссыльнопоселенцы, в которую впоследствии попадали и финны, сначала отправленные сюда в ссылку «в каторжные работы»43. Вместе с отправкой в
Сибирь они лишались всех имущественных и сословных прав, не могли находиться на государственной или общественной службе, а постоянных местом жительства становился пункт водворения, определяемый губернским начальством. Через полгода проживания в нем, ссыльнопоселенец мог по разрешению властей передвигаться только по своему уезду Однако для финских ссыльных существовало другое правило: в пределах Сибири они могли перемещаться с разрешения местного начальства.
С 1862 г. по указу императора Александра II генерал-губернатор Западной Сибири мог давать разрешение на гражданскую службу тем, кто по своему званию не подвергался телесным наказаниям и пробыл в Сибири не менее 10 лет44.
Ссылка в Сибирь, сама по себе являвшаяся суровым наказанием для финских уголовных преступников, несла в себе еще и массу других тягот и лишений. Финские преступники, осужденные к ссылке, исключались на всю жизнь из того общества, к которому принадлежали ранее, в Финляндии они лишались всех гражданских прав по бывшим брачным связям, наследству и прочему. В Сибири такие ссыльные являлись основным источником нищенства.
Однако, несмотря на суровые условия жизни в неволе, многие финские ссыльные нашли утешение в своей вере. Согласно особому распоряжению Николая I финские преступники в ссылке «не были лишены нужных духовных требований и возможности получать утешение и назидание в вероучении их»45. Сенат Финляндии не только оплачивал доставку ссыльных в места ссылки (через Выборг, Санкт-Петербург, Москву, Тобольск до места назначения), но и принимал меры для «исправления духовных требований», отправляя с каждой партией ссыльных священника из Финляндского Лютеранского духовенства. Ему назначалось жалование из казны Финляндии, и периодически доставлялись религиозные книги46. Помимо этого местное духовенство «греко-российского исповедания» обязывалось в случае болезни ссыльных или на смертном одре, предоставлять к их утешению «истины Христианского закона»47. Однако на местах, в указанных в законе случаях, зачастую невозможно было отыскать такого священника.
Лютеранская церковь направляла своих пасторов и учителей лишь в крупные поселения, где постоянно проживали не более четверти ссыльных финнов. Большинство же все время передвигались в поисках работы и, тем самым, быстрее ассимилировались. Культурные традиции, язык и этническая идентичность у финнов сохранялись в основном в изолированных деревнях (Бугене, Боярка, Пиетари и других).
Случавшиеся в сибирских городах кражи или пожары местные нередко списывали на ссыльных. Тогда в отношении содержания ссыльных начинались ограничения, задержка переписки и прочие притеснения со стороны местной администрации. Прогрессивно на- 14
строенный Томский гражданский губернатор Г.Г. Лерхе считал, что ссыльных нельзя и опасно доводить до отчаяния, а необходимо, чтобы, находясь в Сибири, они могли приносить пользу краю48.
В неволе многие финляндские ссыльные отошли от своего криминального прошлого. Пристальный надзор со стороны как властей, так и местных жителей нейтрализовал «преступный запал» и возможность найти подельников. К тому же местный климат заставлял все силы отдавать на приспособление к нему. Долгая зима и зависимость потребления от климата приводили ссыльных к длительным «голодным» периодам.
Хотя многие из ссыльных смирились со своей судьбой и искали утешение в религии, некоторые не сдавались и в тяжелых условиях совершали побеги (например, Иоганн Фонтен). Местное начальство было обеспокоено тем, «не сделают ли они нового преступления»49. Нередко финские ссыльные, отправленные на работы в отдаленные районы тайги, не возвращались, и тогда их объявляли в розыск. При этом начальство долгое время не могло узнать, совершили ли побег эти ссыльные, остались в «прикрепленной» местности или умерли.
Несмотря на усилия центральных и местных властей, финские ссыльные сохраняли изоляцию от местного населения в отличие от остальных ссыльных, прибывающих с разных концов Российской империи. Не удалось властям и превратить их в сословие отверженных и презираемых. Как вспоминал один из крупных сибирских купцов, приезжие столичные чиновники приходили в ужас от столь близкого соседства местных со ссыльными. Он сам, имея при себе огромную сумму денег, спокойно ночевал, когда бывал в разъездах, в доме бывшего каторжника, а кучера взял из ссыльных50. Да и сами полицейские чиновники не гнушались трудом арестантов. Почти безвозмездно долгие годы своего срока те работали на них дворниками, строителями, печниками. Постепенно местные перестали бояться ссыльных. Однако в большей степени это касалось политических ссыльных. Уголовников, отбывших каторжное наказание и имевших на лице особое клеймо звали «варнаками» или «посель-щиками»51.
Лояльность к ссыльным проявляли и некоторые местные чиновники. Тобольского губернатора А.И. Деспот-Зеновича и томского В.И. Мерцалова обвиняли в слишком «теплом» отношении к политическим ссыльным52. Последний вообще за это был отстранен от должности в 1883 г.53. О сочувствии к политическим ссыльным говорят и ежегодные полицейские отчеты по Алтайскому горному округу54.
Ссыльные и их поведение влияли на образ жизни местного населения. Политические несли в себе просвещение местного населения, уголовные ссыльные восполняли нехватку рабочей силы. Многие, окончательно освоившись, оставались здесь навсегда. Власть не могла даже пересчитать всех, и в отчетах о ссыльных нередко можно увидеть пометку «безвестно отсутствующий». Вместе с тем и чиновники понимали, что преступность ссыльных в крае не превышала местную и была вызвана их безвыходным положением55.
* * *
Итак, в XIX в. сосланные из Финляндии в Сибирь лица, осужденные за уголовные преступления, вместе с другими ссыльными стали в крае источником дешевой рабочей силы для государственных заводов и рудников. Держась изолированно от местного населения, финнам в условиях сибирской ссылки удалось сохранить религиозную и этническую идентичность, выжить и приспособиться к жизни ссыльных. Доброжелательное отношение к ссыльным со стороны местного населения способствовало как выживанию финнов, так и передаче ими своим потомкам опыта выживания в условиях сибирской ссылки. Суровый климат способствовал формированию у ссыльных особых качеств: самоуверенности, индивидуализма, решительности. Эти же качества отличали и местное сибирское население.
В правовом положении финляндских ссыльных в Сибири проявилось особое положение Финляндии в составе Российской империи: в законотворческом процессе учитывалось мнение финляндской стороны, к ссыльным уголовным преступникам принимались более гуманные меры, им разрешалось селиться по этноконфесси-ональному принципу, давались налоговые льготы, поощрялось сохранение лютеранского вероисповедания.
Список литературы Финляндские уголовные преступники в сибирской ссылке (XIX век)
- Рощевская Л.П. Томские кружки 1870 - 1880-х гг. // Вопросы истории. 1981. № 8. С. 182-184.
- Ретунский В.Ф. Государственные преступники: Страницы истории политической ссылки в Зауралье. Сургут, 1992
- Daly Jonathan W. Autocracy Under Siege: Security Police and Opposition in Russia, 1866 - 1905. DeCalb (Ill), 1998
- Дегальцева Е.А. Образ жизни сибиряков во второй половине XIX - начале XX вв. Барнаул, 2005
- Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь в конце XIX - начале XX века: Проблемы регионального управления // Отечественная история. 1994. № 2. С. 60-73
- Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь: Административная политика в первой половине XIX в. Омск, 1995
- Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь: Административная политика второй половины XIX - начала ХХ вв. Омск, 1997.
- Дегальцева Е.А. Образ жизни сибиряков во второй половине XIX - начале XX вв. Барнаул, 2005. С. 121.
- Загорский В.М. Из быта и нравов Сибири XVIII в. // Сибирский архив: Журнал археологии, истории и этнографии Сибири. 1912. № 6. С. 458, 459.
- Кораблин К.К. Негативные последствия сибирской ссылки для реализации пенитенциарных целей уголовного наказания в дореволюционной России // История государства и права. 2007. № 11. С. 26-29.
- Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: История и правовое положение. Саратов, 2001.
- Дегальцева Е.А. Вклад ссыльных поляков в социокультурное развитие Сибири во второй половине XIX в. // Гуманитарные науки в Сибири. 2000. № 2. С. 64-68.
- Чукмалдин Н.М. Мои воспоминания: Избранные произведения. Тюмень, 1997. С. 133.
- Рябков П. Полярные страны Сибири (Заметки и наблюдения в Колымском округе) // Сибирский сборник. Санкт-Петербург, 1887. С. 12.
- Мерцалов В. Мимоходом: Моя губернаторская эпопея // Русская старина. 1917. Т. 170. Вып. 4-6. С. 17.