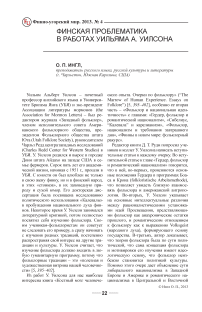Финская проблематика в работах Уильяма А. Уилсона
Автор: Ингл Оксана Петровна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 4, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются работы американского фольклориста Уильяма А. Уилсона, посвященные «Калевале» и теме финского национализма.
Гердер, "калевала", фольклор, романтический национализм, национальная идентичность, культура и психология, финский национализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14723025
IDR: 14723025
Текст научной статьи Финская проблематика в работах Уильяма А. Уилсона
Уильям Альберт Уилсон – почетный профессор английского языка в Университете Бригама Янга (УБЯ) и экс-президент Ассоциации литературы мормонов (the Association for Mormon Letters) – был редактором журнала «Западный фольклор», членом исполнительного совета Американского фольклорного общества, президентом Фольклорного общества штата Юта (Utah Folklore Society), руководителем Чарльз Редд центрa западных исследований (Charles Redd Center for Western Studies) в УБЯ. У. Уилсон родился и вырос в городке Дони штата Айдахо на западе США в семье фермеров. Сорок пять лет его академической жизни, начиная с 1951 г., прошли в УБЯ. С юности он был влюблен не только в свою жену финку, но и в финский народ, в этих «стоиков», в их заповедную природу и сухой юмор. Его докторская диссертация была посвящена исследованию политического использования «Калевалы» в пробуждении национального духа финнов. Некоторое время У. Уилсон занимался литературной критикой, потом полностью посвятил себя изучению фольклора. Своим ученикам-фольклористам он советует не следовать его примеру, а сразу начинать с изучения родных традиций, постепенно распространяя свой интерес на другие традиции и культуры. У. Уилсон считает, что изучение фольклора должно входить в любую гуманитарную программу, потому что фольклорные традиции – это «полезная и художественная витрина нашей человечности» [5, 395–402 ].
Из работ У. Уилсона для нас наиболее интересна книга «Костный мозг человече- ского опыта. Очерки по фольклору» (“The Marrow of Human Experience. Essays on Folklore”) [5, 395–402], особенно ее вторая часть – «Фольклор и национальная идентичность» с главами: «Гердер, фольклор и романтический национализм», «Сибелиус, “Калевалa” и карелианизм», «Фольклор, национализм и требования завтрашнего дня», «Финны в новом мире: фольклорный ракурс».
Редактор книги Д. Т. Руди попросил учеников и коллег У. Уилсона написать вступительные статьи к каждому очерку. Во вступительной статье к главе «Гердер, фольклор и романтический национализм» говорится, что в ней, во-первых, проясняются основные положения Гердера в программах Боаса и Крона (folkloristische Arbeitsmethode), что позволяет увидеть близкую взаимосвязь фольклора и американской антропологии. Во-вторых, У. Уилсон указывает на основные интеллектуальные различия между рационалистическими установками идей Просвещения, представляющими фольклор как анахронические остатки прошлого, и романтическим отношением к фольклору как к выражению Volksgeist (народного духа), формирующего основу государства. В-третьих, автор доказывает, что теория фольклора была по сути политической, что сама концепция фольклора и мотивировки его изучения имеют идеологическую основу, что фольклор неизбежно становится политикой культуры. Помимо этого очерк дает объяснение сути либерального национализма в Западной Европе и Америке и романтического национализма в Центральной и Восточной
Европе. Под национализмом имется в виду состояние разума, в котором человек приписывает чувство собственной индивидуальности государству. «В Центральной и Восточной Европе большинство людей были менее развиты, чем на Западе, социально и политически, так как национальные границы редко совпадали с границами государств. Вследствие этого национализм там стал движением, не защищающим человека от несправедливостей авторитарного государства, а скорее попыткой перечертить политические границы, чтобы они соответствовали контурам этнических групп. Приверженцы такого национализма использовали концепцию народного суверенитета Руссо (она противопоставлялась теории государственного суверенитета, т. е. претензии правителей на неограниченную власть. – О. И. ), вместе с тем были преданы идее, что каждая нация – это определенный организм, не схожий со всеми другими нациями, и индивидуум, будучи лишь частью этого организма, может реализовать себя только в той степени, в которой он посвящает себя национальному целому. Таким образом, индивидуум становится второстепенным по отношению к воле нации, и служение национальному государству становится главным в деятельности человека» [5, 109 ].
В очерке «Гердер, фольклор и романтический национализм» У. Уилсон рассматривает философию Иоганна Г. Гердера (1744–1803), который считается одним из основателей романтического национализма. Гердер многие годы жил и работал в Риге. Записывал и призывал записывать эстонские и латвийские традиционные песни. Свои записи передавал немецким клеркам, которые обрабатывали и печатали фольклорные материалы, при этом поучали крестьян не увлекаться такими примитивными вещами (которые позже стали называть фольклором), а усердствовать в католической вере [2, 151]. Благодаря усилиям Гердера и других энтузиастов фольклор стал доступен читающему образованному населению. Гердер впервые начал использовать понятие «народная поэзия», противопоставляя его искусственной книжной поэзии. Он полагал, а за ним и немецкие поэты-романтики конца XVIII в., что «народная поэзия» выражает национальные чувства и дух нации, что эпические поэты древности – это народные поэты. О Гомере Гердер писал: «Я считаю его самым состоявшимся поэтическим умом своего века, своей нации... Но не ищу источник его гения вне греческой природы и времени, которые его сформировали» [5, 116]. Философ был убежден, что Гомер, Эсхил и Софокл стали великими национальными поэтами Греции только потому, что «писали греческим пером, во имя греческой веры и Греции». Шекспира он тоже считал великим национальным поэтом, потому что тот увековечил свою нацию в своих произведениях.
Влияние Гердера распространилось в Пруссии, в славянских странах, но в Финляндии оно превзошло все пределы его мечтаний. Графство Финляндское в 1809 г. от Швеции перешло к России. Патриотически настроенные интеллектуалы были обеспокоены возможностью насильственной русификации Финляндии, для них философия Гердера предлагала план действия: обратиться к прошлому, чтобы в нем почерпнуть силу для настоящего и будущего. Один из них написал: «Ни одна независимая нация не может существовать без народной поэзии. Поэзия – это не больше чем кристалл, в котором отражается национальность, это родник, который выносит на поверхность воистину самобытную душу народа» [цит. по 5, 121 ]. В соответствии с этим планом и по заказу времени Э. Лённ-рот создал «Калевалу». Со слов финского ученого-фольклориста Йоуко Хаутала (Jouko Hautala), «Калевала» Э. Лённрота «была для финнов даром с небес, дав им самое ценное литературное достояние – древний национальный эпос. Он обратил внимание на легендарное, героическое, величественное прошлое, о котором раньше не знали, он показал, как язык, считавшийся бедным и чахлым, культивировался веками и развился в поразительно богатое средство для поэтического выражения; он привнес веру, настолько тогда необходимую, что нам сегодня и не вообразить» [5, 132 ]. Таким образом, появление лите-
Qy) Финно – угорский мир. 2013. № 4 ратурного произведения стало началом исторической действительности никогда до этого не существовавшей независимой Финляндии.
-
У. Уилсон не рассматривает саму «Калевалу», ее поэтику, его больше интересует то, с каким энтузиазмом она использовалась в национальной политике Финляндии.
В статье «Частичные раскаяния критика. “Калевала”, политика и США» (“Partial Repentance of a Critic. The Kalevala, Politics, and the United States”) [4] У. Уилсон пересматривает свою критику политизированного использования «Калевалы» в Финляндии в связи с новым пониманием собственной вовлеченности в «государственный» фольклор в США. «Когда бы я ни говорил о “Калевале”, всегда вспоминаю слова поэта Эйно Лейно, написанные при подготовке к ежегодному празднованию Дня Калевалы в 1917 году: «Почитать “Калевалу” для нас, финнов, – это то же, что почитать свою собственную глубочайшую суть, знать “Калевалу” – это то же, что ликовать от переполняющего струящегося солнечного света в своей собственной груди или от веры в жизнь и в реализацию потенциальных возможностей. Если финн не читает “Калевалу”, это означает, что он не удосуживается взглянуть на страницы своей собственной книги судьбы. Если финну не нравится “Калевала”, это значит, что ему никто и ничто не нравится, потому что только тот, кто любит себя в первозданности, может излучать любовь вокруг себя. А если финн насмехается над “Калевалой”, он грешит против Святого Духа» [4, 81 ].
У. Уилсон продолжает: «Если бремя уплаты надлежащей дани уважения к “Калевале” тяжело для финна, оно вдвойне тяжело для иностранца, подобного мне, который решил написать о “Калевале”... Почти с первого дня публикации “Калевала” стала для финнов основным свидетельством благородного прошлого страны и главным подтверждением того, что финны, долгое время считавшиеся отсталой, бесталанной нацией, достойны места среди цивилизованных наций мира. Учитывая моментальную, до сих пор не уменьшающуюся значимость “Калевалы” и глу- бокую национальную гордость за книгу, финны очень неодобрительно относятся к любым нападкам извне на “Калевалу” или на ее составителя» [4, 82]. Не собираясь лишать финнов заслуженной славы, У. Уилсон хочет лишь пересмотреть свою раннюю критику финнов и применить ее к США. Его критика относится не к «Калевале», а к финскому национализму и фольклористике, поддерживающей его в 1920–1930-е гг. У. Уилсон критикует финских фольклористов, которые знали, что «Калевала» – произведение Э. Лённрота, но поддерживали и распространяли мнение о том, что она творение финского народа, за то, что они были прежде всего патриотами и политиками, а только потом учеными, за то, что результаты их исследований были подогнанными, выгодными существовавшей в то время политике, а «Калевала» использовалась ими для склонения людей к этой политике. По мнению У. Уилсона, «ученые оказывают лучшую услугу обществу, если не марают руки в “фольклоризме”, как его называют европейцы, а американцы – “государственным фольклором”. Фольклоризм – это процесс, в котором подлинный фольклор выдергивается из социальной среды, где он возникает естественно, и потом его представляют и исполняют в иной обстановке, чтобы удовлетворить политические, экономические, религиозные, развлекательные, образовательные или творческие нужды» [4, 84].
Понимание финского национализма помогло У. Уилсону увидеть американский национализм и использование фольклора государством в своих интересах. Он признается, что, недовольный политизацией фольклора, сам оказался вовлеченным в организацию фольклорных праздников, возглавлял фольклорный центр в штате Юта, был членом центрального комитета Американского фольклорного общества. Служа государственному фольклору, он постоянно спрашивал себя: «Кто говорит от имени фольклора?.. Как, выдергивая фольклор из контекста, а это мы делаем на фактически любой презентации фольклора, дать людям правдивое представление о фольклоре?» [4, 89 ].
На взгляды У. Уилсона, помимо его опыта фольклориста и преподавателя, по-видимому, оказала влияние его мормонская религия. Ее статус в США – это статус мощной легальной религиозной секты, понимаемой как молодая религия. Основание религии приходится на время расцвета романтического национализма – 30-е гг. XIX в. В ней жестко наставляется сохранение традиций в семье и церковной общине. Очевидно, умудренный опытом У. Уилсон осознал ограниченность любой замкнутости, будь то национальная, религиозная, дисциплинарная или какая-либо другая.
Природа фольклорных произведений такова, что у них нет конкретного авторского имени. В процессе развития цивилизации, когда все материальное становится чьим-то, фольклор принимает самые разные формы. Многие считают себя вправе употреблять его в своих целях. Например, композиторы превращают фольклорные мелодии и песни в классические музыкальные произведения. Во всех видах творчества и деятельности можно наблюдать подобное явление. Фольклор отшлифовывается для утонченного вкуса просвещенной публики, загоняется в рамки для образовательных целей или используется в коммерческих интересах, но суть его от этого не меняется. Человеческие ценности постоянны, и это очевидно при знакомстве с фольклором различных народов. Человеческие сообщества (организации и государства) в разные времена принимают лишь различную внешнюю форму, но по сути они однотипны.
-
У. Уилсон, рассматривая «Калевалу», поднимает вопросы, которые по-прежнему актуальны. Он говорит, что главная ценность «Калевалы» – в том, что она озаряет не только финский дух, но дух человеческий. «Пожалуй, правда, что фольклор отражает душу народа, но также правда, что изображение души, отраженное в фольклоре, – это cконструированный образ...» [4, 83 ].
Главная теоретическая слабость работ У. Уилсона (в частности книги «Фольклор и национализм в современной Финляндии» [3]), по П. Анттонену, состоит в том, что он не принял в расчет ключевой факт, согласно которому во главе финского на- ционалистического движения стояли образованные шведы (при поддержке России), так как в XIX в. Финляндия была автономным графством Российской империи. Иными словами, не «угнетенные» финские крестьяне-землевладельцы, носители финской традиции и языка, боролись за создание независимой Финляндии, а их «угнетатели». По сей день, «хотя Финляндия официально считается двуязычной, влияние шведоговорящего населения далеко превосходит их число в процентном составе страны (5,5 %. – О. И.)» [1, 157].
В своих работах У. Уилсон подводит читателя к выводу: представляя или изучая фольклор со всеми его уникальными национальными и прочими особенностями, нельзя фокусироваться только на принадлежности к определенной этнической, профессиональной, религиозной или региональной группе, поскольку такой подход ограничивает, сужает поле зрения, при таком подходе человек не видит полную картину и в итоге упускает самое важное в предмете изучения. Фольклористы, занимающиеся изучением «костного мозга человеческого опыта», должны осознавать, что уникальность фольклора образуют его гуманность и первобытная основа человеческого творчества, которая заложена в каждом из нас.
Список литературы Финская проблематика в работах Уильяма А. Уилсона
- Anttonen, Pertti J. Folk tradition, history and 'the story of Finland//Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship/P. J. Anttonen. -Finnish Literature Society: Helsinki, 2005. -P. 155-177.
- Plakans, A. A Concise History of the Baltic States/A. A. Plakans. -Cambridge, UK: Cambridge UP, 2011. -472 p.
- Wilson, William A. Folklore and nationalism in modern Finland/W. A. Wilson. -Bloomington: Indiana University Press, 1976. -272 p.
- Wilson, William A. Partial Repentance of a Critic. The Kalevala, Politics, and the United States//Folklife Annual. 1986/W. A. Wilson. -American Folklife Center at the Library of Congress. Library of Congress. -Washington, 1987. P. 81-91.
- Wilson, William A. The Marrow of Human Experience. Essays on Folklore. Ed. J. T. Rudy/W. A. Wilson. -Logan: Utah State University Press. UT, 2006. -423 p.