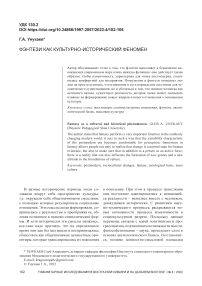Фэнтези как культурно-исторический феномен
Автор: Унукаев Глеб Андреевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
Автор обосновывает тезис о том, что фэнтези выполняет в бесконечно меняющемся современном мире очень важную функцию: оно действует таким образом, чтобы изменчивость, характерная для эпохи постмодерна, становилась комфортной для восприятия. Погружение в фэнтези позволяет людям не просто осознать, что изменение и есть нормальное состояние для человеческого существования, но и убедиться в том, что помимо человека как активного начала, существует реальность, которая также может оказывать влияние на формирование новых жанров и нового отношения к основаниям культуры.
Постмодерн, социокультурные изменения, фэнтези, аксиологический базис, массовая культура
Короткий адрес: https://sciup.org/170196144
IDR: 170196144 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-4/102-106
Текст научной статьи Фэнтези как культурно-исторический феномен
В разные исторические периоды люди создавали вокруг себя пространство культуры, т.е. окружали себя общезначимыми смыслами, с помощью которых регулировали социальные отношения. Эти смыслы люди формировали, соприкасаясь с реальностью и преображая ее, облекая познанное в знаково-символические формы. И хотя исторически эти смыслы менялись, все-таки надо признать, что на определенное время они как бы застывали и воспринимались обществом как общезначимые ценностные ориентиры, которые транслировались из поколения в поколение. При этом в процессе трансляции они постоянно адаптировались к меняющейся реальности – менялись вместе с человеком, движущимся исторически. С развитием научно-технического прогресса раскрываются новые возможности процесса изменчивости в социокультурном разрезе. Поскольку данные перемены связаны с идеей позитивизма и про-грессивизма, подчинением возможности мысли, философствования – науке, происходит слом в основах аксиологического базиса. Он становится, помимо ценностно-смысловой площадки для функционирования возможностей осмысления, деконструкции окружающего, обширным цензом культурных кодов, связывающим отличающиеся (неглобальные) идеи в самоцели триумфа науки. Эпоха модерна закономерно подводит свой итог, названный Ф. Ницше «смертью Бога». Прежние чаяния, интенции, стремления, формирующиеся в «мире идей», разбиваются о реальный мир, кризис культуры, две мировые войны. Р. Панвиц в 1917 г. назовет это явление постмодерном, а в более обширный, научный оборот термин войдет к 1950-м гг.
Время постмодерна, последовавшее за «смертью Бога», для нас наиболее важно, поскольку именно в этот период усложняется познание и восприятие социокультурных изменений. На фоне роста населения, привнесенных глобализмом механизмов обобщения смыслов, а также расширения технологий происходит масштабная сегментация сфер общественной жизни. Они делятся на многие части, отличающиеся друг от друга (но не аксиологически), ведь наука открывает все новые возможности использования как природных, так и социальных потенциалов. Становление ценза как значимой особенности аксиологического базиса, его основа, вытекающая из идеи господства науки, показывают свою несостоятельность. Она выражается в социальном кризисе, экзистенциальном страхе перед будущим и поиском путей выражения самости.
Р. Барт в работе «Смерть автора» напишет, что рождение читателя (субъекта) приходится оплачивать смертью автора. Оно делает его человеком, не имеющим истории, биографии, в этой парадигме автор – «некто». П. Галисон, работая над анализом коллективного аспекта авторства в науке, описывает необходимость данной сегментации как неотъемлемой части действительности. Но экспериментатор в этой парадигме – эфемерный, непостоянный социальный феномен. Ж.-Ф. Лиотар же говорит о смерти метанарративов, т.е. об утрате ими легитимирующей силы, силы придавать смысл. И хотя он делает акцент на том, что необходимо осознать активность жизни, где закономерное разнообразие подразумевается как позитивный фактор, ситуация потерянности в этом случае не снимается. Если допустить, что природа является «безразличным противником», как он пишет в своей работе «Состояние постмодерна», разность может становиться причиной действия, но необходимость формирования базы для осознания смыслов никуда не исчезает, что создает проблему в условиях всеобщей потерянности.
Данная почва в высшей степени плодородна для появления массовой культуры, овладения ею доминантной ролью в передаче ценностей. Она охватывает наиболее широкую аудиторию, потребители ее продуктов глобальны, а транслируемое вторично, так как имеет свою основу в идейном фундаменте прошлого. Однако контексты не понятны (внутри сегментации) в своей сиюминутной адаптации. Эта особенность свидетельствует о том, что массовым становится и личностный коллапс, условия для которого уже сформированы.
Чтобы осознать какую-то идею, добраться до ее корня, нам необходимо пройти как бы по «лестнице», двигаясь от одной «болевой точки» к другой, в зависимости от того, какими догадками (предположениями) мы располагаем. Это движение будет иметь либо хаотичный эффект, характерный для «аномалий», описанных Томасом Куном явлений, которые не наблюдаются изначально, но представляют собой сферу, неразрешимую с помощью подходов устоявшейся системы, либо структурный, проявляющийся чаще, но фактически состоящий из пирамидального вида движения от одной догадки к другой. Последний эффект доказательства идеи предполагает, что обладание меньшим вариантом фактического знания дает ключ к переходу на другой вариант и так далее. Попытаемся применить эту схему к анализу фэнтези, точнее – того, как это явление отражается в контексте постмодерна.
Итак, появление фэнтези входит во временные рамки эпохи постмодерна. Постмодерн выражается в аксиологическом сломе восприятия бытия человеком, основанном на нарушении генезиса идей – смыслов, определяющих подход к целеполаганию в жизнедеятельности. Задачи, стоящие перед человеком, связаны с выражением его самости через взгляд на мироустройство, а значит, охватывают все сферы его существования – как духовные, так и материальные. Как материальные, так и духовные сферы жизни во многом определяются социальной природой людей, а, значит, предполагают удовлетворение определенных потребностей, связанных с самореализацией человека. Следовательно, эти сферы жизни ставят перед человеком задачи, решение которых, несомненно, определяется актуальной для данного этапа формой познания действительности.
В этой связи можно рассмотреть поле возможностей фэнтези и его проявления в рамках восприятия бытия. Совершенно ясно, что появление фэнтези – это ответ на изменения, происходящие в социуме и мире. Речь идет о переменах, характерных для эпохи постмодерна: потеря ценности прежней устойчивости мировосприятия, четких границ целеполагания и прежнего взгляда на действительность. Человек мыслится как животное, «заболевшее разумом» и производящее пустые суррогаты, а глобализм господствует как общий ценз в трансляции смыслов, растворяя многообразие и особенности культур. Человечество сталкивается с небывалыми кризисами, такими как Вторая мировая война, массовая потеря потребности в осознании точек для самореализации (происходящая через тревогу, подавленность, страх и пр.). Между тем, рост науки и техники позволяет уйти от сложного характера удовлетворения ряда потребностей и открывает простор для воплощения потребности в духовном развитии, что диссонирует с идеями, присущими духу времени.
Мы знаем, что фэнтези рождается в 1950-е гг. и с того времени не только не теряет популярности, но лишь наращивает ее, т.к. принадлежит господствующей массовой культуре. Важно, что оно появляется в то время, когда задаются множественные вопросы о потере смысла жизни и возникают все новые и новые общественные вызовы. Как взаимодействовать с этой усложнившейся реальностью? Каким образом познать ее через дух своего времени? Продукты культуры, а именно – массовой, несущей ценности в рамках социокультурной изменчивости, откликаются на общественные вызовы и задачи. В данном контексте можно говорить о фэнтези как явлении, возникающем в точке культурной бифуркации и кризиса. Наше предположение состоит в следующем: популярность и значимость фэнтези связана с его позитивным влиянием на личность и социум, становясь в известной степени формой ответа на общественный запрос.
В том виде, в котором мы понимаем фэнтези, оно обретает себя именно в XX в., насыщенном проблемами самоидентификации, глобальными и частными идеями развития. «Дочь короля Эльфландии», книга Эдварда Планкетта (использовал псевдоним «Лорд Дансени»), появляется в 1924 г. Позже, в 1932 г., издается роман «Конан» Роберта Говарда. В 1950-е гг.
увидят свет «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса. Но, безусловно, основное влияние и большую часть популярности обеспечивает фэнтези «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкина, изданный в 1954–1955 гг. Созданное профессором Толкином пространство смыслов, этот «вторичный мир», описанный им в «Мифопоэйе», фактически делит фэнтези на «до» и «после». И, наконец, в отношении 1960-х гг., когда «Властелин колец» широко распространяется в США, вызывая невероятный интерес молодежи (т.н. «Толкиновский бум»), мы имеем полное право утверждать, что явление фэнтези приобретает основные столпы и черты своего современного облика. Несмотря на то, что присутствует значительное количество авторов, наделенных самобытностью и описывающих свои вселенные и создания, их населяющие, именно мир Толкина – Средиземье (шире – Арда, Эа) – становится важнейшим фэнтези-произведением [1].
Человек постмодерна переживает кризис, ему необходимо понять, куда двигаться и как справляться с вызовами современности. Именно в этих условиях как нельзя лучше показывает себя фэнтези, ведь его главные герои и участники (Геральт, Арагорн, Торин Дартул, Дейнерис и др.) вырываются из определенной зоны комфорта, помещаются в сложные условия, они «вторгаются» в приключение. Сапков-ский напишет: «Фэнтези – это сказка, лишенная оптимизма детерминированной судьбы, это повествование, в котором детерминизм судьбы подпорчен стохастикой случайностей» [2]. Но цепь случайностей происходит в соответствии с определенными законами устройства фэнтезийного мироздания. Оно обладает магической системой, сотканной из смыслов и путей героев. В нем действия персонажей приобретают значения, их видение ситуации конкретно. Совершение некоего поступка приводит к последствиям, которые можно оценить и просчитать. Взглянув на эти рамки, мы можем заметить, что герои имеют возможность жить ради того, что они считают правильным. Но это происходит без внутреннего порицания, поскольку пустоту «той стороны» закрывает собой конкретная система законов мира. Их онтологический статус не подвергается постоянному сражению с самим собой, не насыщается бессмысленностью, хотя внутренние декорации фэнтези-продуктов могут внешне делать акцент именно на это, как в жанрово популярной концепции серой морали.
В данном случае может возникнуть проблема – в ситуации «онтологической неопределенности» самым верным выбором будет эскапизм, уход от окружающей действительности. Однако в этой схеме фэнтези выступает неким зеркалом, которое лишь отражает реальность и де-конструирует ее, позволяя взглянуть на нее без риска «окаменеть» как жертва Горгоны, т.е. без переживания экзистенциальной боли и объективных трудностей.
Принимая во внимание, что фэнтези использует экзистенциальную ситуацию, в которой завтрашний день поддавался определению, а бытие могло быть воспринято людьми и не находилось в сфере постоянной неопределенности, оно выступает своеобразной защитой от неподлинности существования. Возможность поиска решений и обретения выхода, окрашенная конкретикой смыслов мироздания, не уводит человека из реальности, но позволяет ему взглянуть на кризис идентичности и социокультурные изменения под другим углом, формируя конструкцию их познания.
Начиная с 2010-х гг. мир сталкивается с расширением влияния сети интернет. Глобальная паутина, в силу своей специфики, начинает охватывать все сферы человеческой жизнедеятельности и воздействовать на них. Через интернет проходят информационные потоки, насыщенные широким спектром функций, которые, в том числе, транслируют культуру, питают ее. Это позволяет отдельным аспектам массовой культуры, ранее проявлявшимся спорадически, прочно закрепиться в человеческой жизни. Фэнтези также адаптируется к этим условиям, успешно преодолевая зыбкую почву. Так, выход сериала «Игра престолов» знаменовал собой новый виток общественного интереса к этому жанру. Однако у фэнтези появляется новая черта: любая информация, попадающая в объединения, основанные на интересе к жанру, трансформируется в часть того или иного сеттинга – среды, в которой происходит действие произведения. Возникает механизм интерпретации контента, что на фоне консолидации людей позволяет говорить о рождении культуры фэнтези. Этот пласт массовой культуры обладает большим потенциалом, поскольку охватывает наиболее активную в интернете прослойку – молодежь.
В интернете мы сталкиваемся с разного рода сообществами, связанными с фэнтези. Сюда входят группы в социальных сетях, посвящен- ные обсуждению различных теорий и загадок в фэнтези-сеттингах, новинок кинематографа, компьютерных игр и литературы этого жанра. Присутствуют и страницы по производству игрушек, аксессуаров, созданию артов и косплея. К примеру, на август 2020 г. в социальной сети «ВКонтакте» насчитывалось более 940 групп, связанных с вселенной «Ведьмака», свыше 1150 – с «Песней льда и огня» и свыше 1330, относящихся к универсуму Толкина. Количество участников в них разнится, но в отдельных группах оно может превышать миллион человек, а просмотры отдельных постов достигают более 80 тысяч.
Исходя из этого, мы можем заключить, что фэнтези предлагает релевантные возможности для самоидентификации, выражения личностных интересов и интенций, коммерческой деятельности, формирования и выражения мнений. Помимо прочего, эти возможности включены в особый механизм, возникающий в рамках относящихся к фэнтези-среде сообществ и заключающийся в трансформации привносимого контента, связанного с другими продуктами массовой культуры. Посредством этого открывается возможность разрешения личностных проблем, возникающих по причине затруднительного восприятия сложностей социокультурных изменений. В данном случае доступная глобально информация распределятся по ценностному критерию внутри устойчивой среды, функции которой состоят не только в обеспечении объединяюще-комфортного взаимодействия с продуктами культуры, но и в создании рабочей схемы построения устойчивого ценностного базиса.
Представленные особенности фэнтези позволяют говорить о том, что потребители этого продукта массовой культуры не закрываются и не уходят от реальности с его помощью: они получают и используют факторы восприятия окружающей действительности, что важно в условиях социокультурных изменений и кризиса идентичности. Проведенный нами в 2021 г. опрос по культуре фэнтези, охватывающий 540 человек, выявил, что лишь 10,6% от общего количества опрошенных не интересуются фэнтези; 76,7% смотрят фильмы, сериалы и интересуются информацией, имеющей отношение к фэнтези; 50,2% читают соответствующую литературу; 35,2% играют в компьютерные игры; 32,6% активно проявляют себя в соцсетях (оставляют комментарии либо имеют свою группу, ведут переписку); 58,1% опрошенных хотят знать о жанре фэнтези больше, а у более чем 72,8% в компаниях он активно обсуждается. Более 66% человек вдохновляют истории о фэнтези-героях. В этой связи можно утверждать, что явление фэнтези становится значимым способом и возможностью познания изменчивости в контексте постмодерна.
Список литературы Фэнтези как культурно-исторический феномен
- Толкин Дж.Р.Р. О волшебных сказках // Толкин Дж.Р.Р. Приключения Тома Бомбадила и другие истории. СПб.: Академический проект, 1994. С. 365-460.
- Sapkowski, А., 1993. Piróg albo Nie ma złota w Szarych górach. Nowa Fantastyka, no. 5, pp. 65-72.