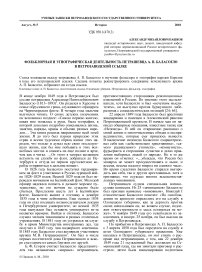Фольклорная и этнографическая деятельность петрашевца А. П. Баласогло в петрозаводской ссылке
Автор: Пашков Александр Михайлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5 (110), 2010 года.
Бесплатный доступ
А. п. баласогло, политическая ссылка, олонецкая губерния, петрозаводск, фольклор, этнография
Короткий адрес: https://sciup.org/14749751
IDR: 14749751
Текст статьи Фольклорная и этнографическая деятельность петрашевца А. П. Баласогло в петрозаводской ссылке
В конце ноября 1849 года в Петрозаводск был сослан петрашевец Александр Пантелеймонович Баласогло (1813–1893)1. Он родился в Херсоне в семье обрусевшего грека, служившего офицером на Черноморском флоте. В четыре года мальчик выучился читать. О своих детских увлечениях он вспоминал позднее: «Самою первою книгою, какая мне попалась в руки, была география, в которой довольно подробно описывались жизнь, занятия, наряды, нравы и обычаи разных народов… Эта книга решила направление всей моей жизни. Я до того был пленен природою этих стран и всеми чудесами образа жизни этих народов, что только и думал всю свою последующую жизнь, как бы мне побывать в этих волшебных местах и описать их еще полнее и ярче, чем как я читал. …От этого я загорел желанием вступить на службу во флот, добраться до Петербурга и оттуда на первом кругосветном корабле отправиться в дальние вояжи».
В 1826 году Баласогло поступил гардемарином на флот и участвовал в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов. Весной 1829 года он был переведен мичманом на Балтийский флот. Молодой офицер надеялся попасть в дальнее морское путешествие, но его мечтам не суждено было сбыться. Прослужив шесть лет в Балтийском флоте, Баласогло вышел в отставку в декабре 1835 года в чине лейтенанта. Еще осенью 1834 года он стал посещать вольнослушателем лекции в Петербургском университете, но весной 1835 года вынужден был оставить университет из-за нехватки времени. Выйдя в отставку, Баласогло служил мелким чиновником в разных столичных учреждениях. В 1841 году он устроился на службу в архив Министерства иностранных дел, где получил в 1845 году чин надворного советника. В 1845 году Баласогло стал активным участником кружка М. В. Петрашевского2. Он был в числе первых посетителей дома Петрашевского и вскоре стал одним из самых близких его друзей.
Б. Ф. Егоров считает Баласогло представителем так называемых «мирных» петрашевцев, противостоявших сторонникам революционных изменений в России. По мнению этого исследователя, хотя Баласогло и был «нечетким мыслителем», он выступал против буржуазного либерализма с социалистических позиций [24; 64].
22 апреля 1849 года Баласогло был арестован жандармами и помещен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В начале мая он написал обширные показания, известные также как «Исповедь». В ней он откровенно рассказал о своей жизни и многочисленных обидах и несправедливостях, которые ему пришлось вынести. В заключение исповеди Баласогло охарактеризовал себя как «действительно христианина», «самого радикального утописта», «коммуниста», фурьериста и сторонника «участия в делах правления выборных людей от народа». Но в то же время он отметил: «…убежден, что Россия без монарха не может просуществовать и ныне, и весьма, весьма надолго вперед ни единого часа». Во время следствия Баласогло старался выгородить как себя, так и других арестованных, хотя и признавал, что осуждал многих высокопоставленных чиновников.
Петрашевцев судила специальная военносудная комиссия. Из 25 «зачинщиков» Баласогло был признан наименее «виновным». Николай I относительно Баласогло повелел: «По освобождении из крепости определить его на службу в Олонецкую губернию, как за дерзость против своих начальников он, во всяком случае, подлежит ответственности и здесь оставаться не может». 9 ноября 1849 года его освободили из заключения, и вскоре, 25 ноября, он был выслан на службу в Петрозаводск.
По прибытии в Петрозаводск А. П. Баласогло с 3 апреля 1850 года был определен на службу в штат Олонецкого губернского правления. Уже находясь в Петрозаводске, он мог узнать о расправе над петрашевцами, о том, как 22 декабря 1849 года 21 осужденный был доставлен на Семеновский плац, где им зачитали приговор о расстреле, затем была инсценирована подготовка к расстрелу, в последний момент казнь была отменена и осужденным был зачитан более мягкий приговор. Подробное описание этого жестокого спектакля было помещено в газете «Русский инвалид» и перепечатано в ряде других газет. Естественно, что состояние Баласогло в первые месяцы ссылки было ужасным. Посетившая его в феврале 1850 года жена писала управляющему III отделением Дубельту: «Во время моего пребывания у мужа в Петрозаводске я нашла его здоровье совершенно расстроенным. Он жалуется на беспрестанные головные боли, сильное расслабление нерв и как бы притупление умственных способностей в такой степени, что он более получаса не может заниматься даже чтением».
Вероятно, Баласогло тяготился пребыванием в Петрозаводске в качестве поднадзорного и стремился хотя бы на время покинуть город. Губернатор Н. Е. Писарев поручил ему сбор статистических материалов. Летом 1850 года Баласогло совершил трехмесячную поездку по Олонецкой губернии, из которой привез большой фольклорный, этнографический и статистический материал. О содержании собранных им материалов можно судить по «Донесению А. П. Баласогло олонецкому губернатору Н. Е. Писареву по поводу собранных им в Олонецкой губернии статистических и этнографических сведений», датированному 18 января 1851 года, которое было впервые опубликовано В. Г. Базановым [22; 174–175], [23; 36–37]. Приведем это донесение:
«Будучи не в силах по расстроенному состоянию своего здоровья продолжать изложение статистических и этнографических сведений, собранных мною в поездку по Олонецкой губернии, имею честь, в исполнение словесного приказания Вашего Благородия, представить вам все имеющиеся у меня материалы. Сверх уже представленных мною В<ашему> Б<лагородию> 79 народных песен здесь находятся:
-
1. и 2. Собрание по алфавиту слов карельского и чудского языков.
-
3. Собрание по алфавиту местных русских народных слов Олонецкой губернии.
-
4. Две народные сказки.
-
5. и 6. Две тетради. Одна в отдельных листках моих кратких черновых заметок по всем пунктам данной мне В<ашим> Б<лагородием> инструкции.
-
7. Несколько листов пословиц и загадок, доставленных мне разными лицами, сверх множества других пословиц, размещенных в двух тетрадях, NN 5 и 6.
-
8. Семь несшитых тетрадей, в листах, статистических ведомостей по городам и окрестным селениям Пудожа и Каргополя, доставленных мне местными начальствами.
-
9. Семнадцать тетрадей и бумаг в листах разных исторических и статистических сведений, доставленных мне местными начальствами, преимущественно по Петрозаводскому и По-венецкому уездам.
-
10. Три ведомости растений Олонецкой губернии, преимущественно собранных аптеками Петрозаводска, Конч-озера и Пудожа, составленным по моей просьбе медиками, аптекарями и фельдшарами этих трех мест.
-
11. Двадцать шесть листов разных старинных актов относительно города Каргополя, добровольно уступленных мне учителем Каргопольского уездного училища г. Смирновым и
-
12. Краткое описание Марциальных вод, составленное и тоже добровольно мне отданное г. Кершиком…»
Перечень материалов, собранных Баласогло, позволяет сделать вывод, что он действительно собрал обширный материал по лингвистике, фольклору, статистике, ботанике и истории Олонецкой губернии. Кроме того, В. Г. Базанов сообщил данные еще о нескольких произведениях Баласогло: «Записка о географических сведениях по Каргопольскому уезду», датированная 14 июня 1850 года, записка «О ловле жемчуга в реке Повенчанке» от 7 августа 1850 года и черновик под названием «Речения», состоящий из 13 карельских слов и выражений с переводом на русский язык.
В середине января 1851 года шеф жандармов граф А. Ф. Орлов секретно запросил олонецкого губернатора Писарева «о поведении и образе мыслей Баласогло, равно о том, заслуживает ли он облегчения участи». От ответа Писарева во многом зависела судьба А. П. Баласогло. Губернатор ответил 27 января: «...честь имею донести, что надворный советник Баласогло ведет себя хорошо, образа своих мыслей старается не обнаруживать, точно так же, как и другие, но, по некоторым случаям и общему характеру его знакомств, я не могу поручиться пред Вашим сиятельством за его благонадежность. Служить и что-нибудь делать он, по-видимому, не желает. Я хотел доставить ему занятие по собственному его выбору – он попросил меня командировать его для собрания статистических сведений – я исполнил его желание, он был очень доволен, благодарил, обещал исполнить все, что было поручено, и порученного не выполнил, отзываясь болезнию, которая, однако, не препятствует ему ходить в гости и на вечера и танцевать усердно. Поэтому я не смею доложить В<ашему> С<иятельству>, чтобы он заслуживал в настоящее время какое-либо смягчение участи». Таким образом, мнение губернатора Писарева о краеведческих изысканиях Баласогло было отрицательным.
Действительно, находясь в крайне угнетенном моральном состоянии, подвергаясь нападкам Писарева, Баласогло не мог заниматься научными изысканиями. Когда надежды на скорое освобождение из ссылки были совсем утрачены, а нервная система еще больше вышла из строя, он решился на отчаянный шаг. Вечером 27 мая 1851 года он пришел на петрозаводскую гауптвахту и заявил караульным солдатам, что ему известна «одна важная государственная тайна» и потому он требует отправить его в Петербург «как можно поспешнее для личного объяснения» с Николаем I, «без чего он не может ручаться за собственную жизнь». Он был немедленно доставлен на квартиру командира местного гарнизонного батальона полковника Юрасова. Туда же по требованию Баласогло прибыли несколько видных городских чиновников (по его словам – «особы, которых я привык ценить и уважать, что и останется во мне навек, в воспоминание о Петрозаводске»), включая вице-губернатора М. М. Большева (губернатора в тот момент в городе не было), горного начальника Н. Ф. Бутенева и еще 9 человек.
В их присутствии ссыльный заявил, что, «будучи в полном рассудке и не в болезненном состоянии», намерен открыть Николаю I «важную государственную тайну, а именно верховную измену генерал-лейтенанта Леонтья Васильевича Дубельта... и потому убедительнейше просит и требует священным именем Его величества оказать ему милость, отправить его в сию же минуту прямо в Петербург, прямо в Зимний или другой дворец, где находится Его величество, где бы он мог успеть лично объяснить эту тайну или самому Его величеству, или, в случае его отсутствия из столицы, государю наследнику Александру Николаевичу». Кроме того, он подчеркнул: «…чтобы из этого дела не было шуму где бы то ни было, потому что Баласогло никогда нигде не бывал бунтовщиком или мстительным человеком, а взял эти меры единственно по безграничной своей преданности в волю Божию, законам государства, вере и доброй нравственности». Собравшиеся чиновники предложили Баласогло изложить все сказанное им письменно, на что тот «первоначально отвечал, что, будучи в сильнейшем внутреннем волнении, он не в силах писать... однако же впоследствии... изъявил желание написать своеручно от себя объяснение, что и было ему позволено».
После этого два врача провели медицинское освидетельствование Баласогло. В составленном ими акте имеется уникальное описание внешности ссыльного: «...он имеет от роду 37 лет, телосложения он худощавого, лица бледного, с заметным болезненным выражением, но особенную болезнь не объявлял, а явно только сильная нервная раздражительность». В итоге врачи сделали вывод: «На все вопросы, сделанные ему, отвечал совершенно соответственно, связно и понятливо, но также видны были внутреннее беспокойство и раздражительность. Поэтому в настоящее время только заключить следует, что он находится в сильном душевном волнении и нервном расстройстве, а явного расстройства умственным его способностям в настоящее время не заметно».
Тогда же, в ночь с 27 на 28 мая, были опечатаны вещи Баласогло. Он жил вместе с другим ссыльным В. М. Белозерским. Из описи имуще- ства видно, что у Баласогло было довольно много книг, так как в описи упомянуты «чемодан белой кожи с книгами и бельем», «ящик с книгами, шляпою и другими», а также большая коллекция камней, собранных, возможно, во время поездки по губернии летом 1850 года («горной породы каменья: в куле, чемодане и двух ящиках»).
На следующий день, 28 мая, Баласогло в сопровождении жандармского поручика был отправлен в Петербург и 31 мая сдан в Министерство внутренних дел. Вице-губернатор Большев отправил 29 мая, то есть вдогонку арестанту, его секретную характеристику: «...надворный советник Баласогло во все время бытности его в Петрозаводске вел себя примерно хорошо, был всегда постоянно скромен, и не только ни в чем предосудительном не замечен, но даже приличным поведением своим и благонравием успел приобрести здесь общее к себе расположение». Видно, что эта характеристика была более благоприятна для Баласогло, чем отзыв Писарева.
1 июня 1851 года Баласогло был вновь заключен в Петропавловскую крепость, откуда через месяц, после нервного припадка, переведен в лечебницу для душевнобольных, а в ноябре отправлен под секретный надзор в Николаев. Больше он в Олонецкой губернии никогда не был, хотя прожил очень долго и умер в Николаеве в январе 1893 года.
Итоги краеведческой деятельности Баласог-ло в Петрозаводске в силу ряда причин были довольно скромными. Отсутствие систематического образования, расшатанное здоровье, неустойчивая психика, придирки губернатора не позволили ему серьезно заняться изучением края, ставшего местом его изгнания. Во время поездки по Олонецкой губернии летом 1850 года он сумел собрать множество разнородных материалов, но неизвестно почти ни одной его рукописной работы, созданной на основе этих материалов, не говоря уже о публикациях. Можно сказать, что во время ссылки это был морально и физически сломленный человек.
Остается неясной судьба петрозаводского архива Баласогло. Известно, что часть его имущества была выдана Белозерскому в августе 1851 года. Сам Баласогло по приезде в Николаев обратился к Л. В. Дубельту за содействием в высылке ему оставшихся в Петрозаводске вещей. В мае 1852 года Дубельт обратился с аналогичной просьбой к новому олонецкому губернатору князю Ю. А. Долгорукову. Вскоре, в конце июля, вещи Баласогло были выданы по доверенности В. М. Белозерскому. Вероятно, ему же достались и рукописи. Затем архив Баласогло оказался в распоряжении учителя петрозаводской гимназии Ф. И. Дозе.
Выпускник этой гимназии 1855 года К. М. Петров, известный как один из самых активных краеведов Олонецкого края второй половины XIX века3, вспоминал позднее: «В 50-х годах чиновник особых поручений при губернаторе
Баласогло записал и собрал весьма многое. Все его собрание, когда Баласогло сошел с ума, досталось учителю гимназии Ф. И. Дозе. Очень жаль, что собрание Баласогло утратилось в целом; но по частям оно сохранилось в трудах олонецких гимназистов. Дозе был человек образованный, любил свой предмет преподавания, любил учеников своих и многих из них направил на путь изучения края во всех отношениях. Так, мне он дал записанные Баласогло заплачки по покойникам и вследствие этого явились два ученических сочинения – “Заплачки и причитания” и “Похороны и поминки в Олонецкой губернии”. Товарищу моему Бобровскому достались свадебные песни и явилось тоже гимназическое сочинение “Свадебные обряды в Заонежье”. Клементьев написал “Поговорки о городах и племенах Олонецкого края”. Все ученические сочинения впоследствии были переделаны и напечатаны или в “Русском дневнике”, издававшемся Мельниковым, или в местной газете» [13; 83].
Действительно, в 1858 году К. М. Петров поместил в журнале «Лучи» очерк «Заплачки в Олонецкой губернии», перепечатанный затем в газете «Олонецкие губернские ведомости» [12] (далее – «ОГВ»). Несколько народных преданий о панах, кладах и чертях, собранных в основном в деревне Мегра (Мегорский погост) Лодейно-польского уезда, были помещены им в газете «Русский дневник» [10]. В очерке «Панское озеро» он привел два предания о нападении «панов» на Мегру и их гибели в озере, в одном случае от чуда, а в другом – от хитрости местных крестьян. Предания «Бочка с золотом» и «Коровы» посвящены чертям, жившим в небольшом озере вблизи Мегры. В статье «Присловья в Олонецкой губернии» были перечислены обидные прозвища жителей разных городов и сел Олонецкой губернии и сделана попытка объяснить их происхождение [11]. Но все эти публикации были лишь основаны на материалах Бала-согло и подверглись двойной переработке сначала петрозаводскими гимназистами и Дозе, а затем Петровым. Таким образом, Петрова можно считать первым исследователем научной деятельности Баласогло, оценившим его вклад в фольклорно-этнографическое изучение Олонецкого края.
Существует одна публикация из собрания Баласогло, подвергшаяся минимальному редактированию. В 1856 году – первой половине 1857 года неофициальную часть газеты «ОГВ», где помещались все краеведческие материалы, редактировал Дозе. В мае–июне 1857 года наверняка по инициативе Дозе и незадолго до его отъезда из Петрозаводска в газете под рубрикой «Этнографические материалы» была помещена статья «Предания о панах в Олонецкой губернии» [15]. Она имела подзаголовок «Извлечено из бумаг А. П. Б<аласогло>».
В начале данной публикации сделана попытка обрисовать географию преданий о «панах»: «Во всей губернии более или менее, исключая, может быть, только небольшое пространство западной ее части, т. е. Олонецкого уезда, со смежными отрывками Петрозаводского и Лодейнопольского, существуют почти на каждом шагу предания о так называемых “панах”; сильнее всего эти предания уцелели во всем Заонежье, с прилегающими к нему частями Пудожского и Повенецкого уездов». Затем автор очерка попытался охарактеризовать основных персонажей преданий: «Паны ни народ, ни сословие, ни род, ни племя, а просто – чужие люди, приходившие обращать крещеных в свою веру. Они приходили почти что во всякую деревню артелями, жгли дома, храмы Божии, убивали народ, грабили и уходили восвояси... В иных местах они и жили; у них были тут и ворота, и городки, и дома, и даже свои церкви. Но теперь ничего не осталось: как ушли, так все и побросали в воду».
Далее автор очерка изложил методику своей работы, заключавшуюся в сборе преданий о «панах» и их сопоставлении между собой и с данными письменных источников, и сформулировал задачу своего исследования: «...в настоящем очерке я ограничусь рассказом нескольких известных мне преданий, из которых можно, однако, вывести некоторые характеристические черты набегов панов и впечатления, оставленного ими на жителей». Эта фраза может считаться ключевой для выявления автора рассматриваемого очерка. Из нее ясно, что это не пересказ, а публикация рукописи Баласогло.
Из преданий видно, что «паны» часто строили себе дома, откуда делали частые и внезапные набеги на окрестности. В качестве конкретных примеров Баласогло привел предания о жилищах «панов» в окрестностях деревни Горка (два замка с огромными воротами) и на «Столовой горе» у Путкозера, к югу от Шунгского погоста, называемой местными жителями «Город» и «Панская гора». Можно добавить, что во время поездки по губернии летом 1850 года Баласогло действительно посетил деревню Горка 16– 18 июня и побывал там на свадьбе в доме крестьянина Мелехова [22; 173], [23; 36]4. Поэтому можно предположить, что предания о «панах», приведенные в очерке, были собраны самим Ба-ласогло.
В публикации отмечалось, что кроме Заоне-жья предания о «панах» распространены в Пудожском, Каргопольском и Повенецком уездах. Так, в окрестностях Пудожа, у деревни Журави-цы, «видны теперь еще остатки древнего строения, имеющего вид “анбарушки”, т. е. малого анбара», которые народ считал остатками панского замка. В очерке сообщается, что «30 лет тому назад (около 1820 года. – А. П. ) близ мыса “Кунявский нос”, выдающегося в Водлу, один крестьянин нашел в земле две вещи: род блюдца, но неизвестно, из какого металла, и золотую чашку; эти вещи относят к животу (имуществу. – А. П. ) одного пана, жившего тут».
Вторую группу преданий, выделенную Бала-согло, составляют предания о набегах «панов». Среди них вновь выделены заонежские предания, так как, по мнению краеведа, именно в За-онежье «паны» «оставили более по себе воспоминаний». Баласогло подробно пересказал предание о нападении «панов» на Кижский погост. По преданию, в старину Кижская церковь во имя Спаса стояла севернее, там, где «теперь», то есть в середине XIX века, находилась часовня Святого Духа. Во время праздника Покрова Богородицы «паны» напали на Кижи, приплыв из Повен-ца. Народ укрылся в храме, но «паны» ворвались и туда, «начали резать народ и стрелять в него». Две стрелы попали в икону («образ Спаса»), и в этот момент случилось чудо – «на панов нашла темень», то есть они ослепли, «стали резать друг друга и легли все на месте». Отметины от стрел, писал краевед, «видны на образе до сих пор». После такого осквернения церковь была оставлена и вскоре сгорела от молнии. Новая церковь была возведена южнее, где в кустах таинственным образом был найден «образ Спаса» из сгоревшего храма. Таким образом, по мнению Ба-ласогло, «часовня, церковь и образ, существующий до сих пор, служат памятниками нападения панов в южном крае Заонежья».
Действие еще одного предания, приведенного в очерке, развернулось у деревни Сигова, южнее Шуньги. Живший там на хуторе крестьянин бежал от «панов» зимой на остров, но был пойман и ограблен. Баласогло сделал точную привязку этого предания к местности, сообщая, что сейчас там находится «двор крестьянина Федотова». При этом публикатор очерка (вероятно, Дозе) добавил к последней фразе ценное примечание: «Записано в 1849 году». Хотя здесь допущена неточность, так как поездка Баласогло состоялась летом 1850 года, но для Дозе, приехавшего в Петрозаводск только в 1853 году, это было свежее предание, то есть он узнал о нем от других людей, а не из документов, и ошибка в один год здесь вполне допустима. Это примечание вновь подтверждает, что очерк «Предания о панах в Олонецкой губернии» является публикацией рукописи Баласогло.
В очерке Баласогло подробно пересказано предание об осаде «панами» монастыря, находившегося на месте Шальского погоста в Пудожском уезде. «Паны» долго не могли взять монастырь. Начались переговоры, на которых нападавшие требовали от защитников монастыря «принять их веру». Во время переговоров «к порогу едва державшегося монастыря» подбежала лисица. Монахи погнались за ней, и зверь «ульнул в матицу» (то есть провалился в прорубь, сделанную для ловли рыбы). Там у нее примерз хвост. Монахи поймали лисицу и подарили одному из «панов», давая этим понять, что «Бог не оставит их и что сами паны могут, подобно этому зверю, заморозить себе хвост». После этого «паны» отошли от монастыря. Вскоре общими силами местных жителей удалось загнать «панов» на соседнюю гору, и там «Бог напустил на врагов имени своего “темень” (слепоту), и они перебили друг друга». Это место получило название «Немецкая гора».
Это предание основано на реальных фактах. До Смуты действительно существовал Шальский монастырь [25; 5–7]. В январе 1613 года «паны» совершили набег от Каргополя на Шальский погост [3; 194], и монастырь был разорен. В предании, приведенном Баласогло, бросаются в глаза две параллели: с известной русской сказкой из сборника А. Н. Афанасьева «Лисичка-сестричка и волк» [7] и с легендой о «белгородском киселе» из «Повести временных лет» [14; 286–287].
В завершение очерка автор сделал два вывода: о «существовании в Олонецком крае панов» и о том, что они пришли сюда «единственно для грабежей». Кроме того, предания содержат сведения о местах проживания, набегах и численности «панов», а также о том, «в какое время и в каких пределах бродили и проживали в Олонецком крае паны». Общий вывод Баласогло достаточно осторожен: «Так как олонецкий народ не знает никаких других враждебных народов в исторические времена, как только одних панов, то можно понимать под этим словом не отдельный народ или племя, а просто сброд людей из поляков, литвы, татар, черкасов, казаков и шведов».
Итак, очерк Баласогло «Предания о панах в Олонецкой губернии», опубликованный Дозе в газете «ОГВ» в мае–июне 1857 года, является первой в краеведческой историографии попыткой собрать и обобщить широко бытовавшие среди населения Олонецкой губернии предания о «панах», типологизировать содержавшиеся в них сведения и очертить ареал их распространения. Баласогло пытался привлечь к анализу преданий вещественные памятники (постройки, вещи из кладов, иконы, поклонные кресты и т. д.). При этом автор совсем не использовал письменные источники. Он плохо знал не только историю края, но и труды по отечественной истории. В очерке нет обычных для такого рода работ отсылок к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, к публикациям Археографической комиссии. Поэтому анализ преданий довольно поверхностен, а выводы автора откровенно слабы.
Основная ценность очерка Баласогло – в богатом фактическом материале. Он собрал и пересказал много преданий, четко привязав их к конкретной местности, хотя не указал, от кого именно предания были записаны. Фактически Баласогло провел первую в истории регионального краеведения фольклорную экспедицию. По упомянутым в тексте очерка населенным пунктам можно даже восстановить маршрут этой поездки: Заонежье (Горка, Сигова, Шуньга, Кижи), окрестности Повенца (Пергуба, Лумбуши), Се-гозерье (Карельская Масельга, Паданы, Сельга), Выгозерье (Вожма-салма, Выгозеро, Койкини- цы), Пудожье (Шала, Песчаное, Пудож, река Во-дла) и Каргополье (Воробьево, Позднышево).
Обращение Баласогло к такому жанру, как сбор и публикация исторических преданий, не было случайным. Корни этого явления лежат в социокультурной обстановке 1840-х годов, когда обращение к проявлениям народной жизни, важнейшим из которых был фольклор, стало приемом идейной борьбы между сторонниками теории «официальной народности», славянофилами и революционными демократами. Вероятнее всего, Баласогло находился под влиянием идей В. Г. Белинского, который, в свою очередь, был поклонником идей немецкого философа И. Г. Гердера. Впрочем, в тексте рассматриваемого очерка не упоминается ни один ученый или исследователь.
Неслучайным является и интерес Баласогло к преданиям о «панах». Нашествие отрядов литовцев, русских и украинских казаков и других участников гражданской войны в России на Русский Север в 1612–1615 годах имело тяжелейшие последствия, а «паны» как обобщенный образ опасных и беспощадных врагов стали составной частью картины мира севернорусского крестьянства, не знавшего со времени заселения края в XIV веке до начала ХХ века никаких иных иноземных нашествий [29]. По этой причине, а также в силу развитой фольклорной традиции предания о «панах» были необычайно широко распространены по всему Русскому Северу. Можно предположить, что интерес к этим преданиям был частично обусловлен достаточно сложным положением Польши в составе России в XIX веке. В 1830–1831 годах произошло польское восстание. Многие участники польского национально-освободительного движения высылались в отдаленные местности России, в частности в Олонецкую губернию. Поэтому можно считать вполне вероятными факты контактов Баласогло с польскими ссыльными. В последующие годы публикация Баласогло, посвященная преданиям о «панах», неоднократно использовалась в трудах как дореволюционных краеведов [4; 16], так и исследователей советского периода [26; 55, 57–58], [27; 79–82].
Кроме преданий о «панах» Дозе сделал в «ОГВ» еще две публикации «Из бумаг А. П. Б.», то есть из архива А. П. Баласогло. Это были две былины («старины»): «Старина о Василье» [19] и «Старина о Соловье Будимировиче» [20], что стало первой публикацией былин Олонецкого края. Она оказала определенное влияние на формирование собирательских интересов известного исследователя былин П. Н. Рыбникова. Сам он вспоминал: «В течение 1859 года из разговоров с петрозаводскими старожилами я узнал, что в сельском населении Олонецкой губернии сохранилось много любопытнейших и древних обычаев, поверий, преданий, былин и песен. В подтверждение этим рассказам указывали на исторические и этнографические данные, напечатанные в местных гу- бернских ведомостях, между прочим на две былины о богатырях – Соловье Будимировиче и Васи-лье-пьянице» [16; 48]. Эти публикации записей Баласогло, сделанные Дозе, дали основание Петрову утверждать, что «Дозе, а не П. Н. Рыбников пробудил дремавшую Олонецкую губернию» [13; 83]. Однако сам Рыбников предостерегал от преувеличения роли и значения трудов его предшественников в области собирания русского фольклора Олонецкого края. В апреле 1861 года он писал П. А. Бессонову: «Возьмите в соображение, что здесь любителей бывало много, – и начальников горных заводов, и губернаторов: все они собирали, а что явилось в свет? Одна старина в Губернских ведомостях» [5; 239]. Поэтому можно согласиться с мнением И. А. Разумовой: «В целом же фольклорные записи предшественников Рыбникова были единичны и носили эпизодический характер. Однако заслуги этих людей в пробуждении интереса к фольклору среди местной интеллигенции, в стремлении сохранить памятники духовной культуры неоспоримы» [32; 22]5. Обе старины, записанные Баласогло, были включены Рыбниковым в свое собрание былин [18; 520–522 (текст), 566 (комментарий)].
Еще одна работа Баласогло дошла до нас в переработанном виде как сочинение, написанное в 1856 году на основе рукописи ссыльного краеведа гимназистом А. Клементьевым под руководством учителя Дозе. Алексей Клементьев окончил олонецкую губернскую гимназию в Петрозаводске в 1857 году и вскоре умер. В 1873 году его сочинение «Народные поговорки о городах и племенах Олонецкого края» было опубликовано в газете «ОГВ» [6] Петровым, который в 1861– 1874 годах был в этой гимназии преподавателем русского языка.
В сочинении Клементьева высказана мысль об Олонецком крае как о заповеднике архаики: «Наш край чрезвычайно любопытный: в нем сохранилось много русской старины в языке, в обычаях, в исторических былинах, преданиях и даже памятниках, рассеянных повсюду».
Много места в сочинении уделено характеристике крупнейшего прибалтийско-финского этноса, проживавшего в Олонецком крае, – карел. Материалы, собранные Баласогло в деревне Карельская Масельга Повенецкого уезда, позволяют автору сочинения отметить бытование сильных языческих пережитков среди сегозерских карел: «На севере между корелами долго сохранялись следы язычества; христианство и сношения с русскими быстро уничтожили сознательное язычество; но оно перешло в предания, в суеверные обряды, которые строго соблюдаются по местам людьми невежественными, не понимающими, к счастью, их смысла. Особенно ревностно исполняются и хранятся эти обычаи старухами». В качестве примера таких пережитков описан обряд «прощения», распространенный «в карельских деревнях Повенец-кого уезда». Обряд совершается женщиной, у которой произошла неприятность, связанная с водой
(расплескала ведро, поскользнулась и ушиблась, вымочила платье и т. д.), и которая считает это наказанием водяного («водяника») за какое-то свое прегрешение. Поэтому она просит прощения у «хозяина» и бросает на этом месте в воду монету, небольшой моток ниток, яркий лоскут или что-либо иное, в зависимости от тяжести «кары» водяного. Такой же обычай существовал и в отношении лешего («лесовика»), если происшедшее случилось в лесу. Если болезнь или боль застала женщину дома, то причиной этого считается прегрешение перед бытовыми предметами и прощения просят у стола, печки, веретена, рукомойника, хлева и т. д. Вслед за Баласогло Клементьев отметил, что «мужчины, хотя и не изъяты совершенно от этих суеверий, но, будучи умнее, или, по крайней мере, бывалее женщин, не часто поддаются искушению “прощаться”».
Баласогло можно считать одним из первых российских исследователей карел, во всяком случае – первым российским исследователем сего-зерских карел, а его поездку в Сегозерье летом 1850 года – первой фольклорно-этнографической экспедицией в этот регион.
Среди прозвищ жителей отдельных городов Олонецкого края большое место в сочинении занимают поговорки о жителях Пудожа: «Из городов самую горькую долю приписывают народные поговорки Пудоге, называя пудожан “балахонни-ками”. Про бедность Пудоги есть несколько поговорок; так, например: “Горе горькое, победная Пудога! Пофунтовно хлеб покупают! Голоднее деревни!” Другая: “Наша голодная Пудога!” Третья: “В нашей Пудоге можно умереть голодной смертью!” О жителях Лодейного поля приведена только одна поговорка: “Дурные свойства лодей-нопольцев выражены в прозвище “Лодейное поле – злодейное поле”». Можно отметить, что Бала-согло, вероятно, не посещал Лодейного Поля во время поездки летом 1850 года, но проезжал этот город в ноябре 1849 года по пути из Петербурга в ссылку.
Итак, материалы Баласогло, которые легли в основу сочинения Клементьева, могут быть выделены из него с известной долей вероятности. Они могут углубить имеющиеся представления о краеведческой деятельности Баласогло. Его интересовали проблемы самоидентификации русского крестьянства Олонецкого края, что проявилось в собирании крестьянских анекдотов, прозвищ жителей отдельных поселений. Особое значение имеют его фольклорно-этнографические материалы о карелах. Таким образом, это был разносторонний, хотя и поверхностный исследователь. Кроме того, данная публикация позволяет подтвердить предположения о маршруте поездки Баласогло. На основе анализа сочинения Клементьева можно прийти к интересному выводу о том, что оригинальные краеведческие материалы, собранные конкретным исследователем в конце XVIII – первой половине XIX века, затем неоднократно использовались в публикациях в местной печати, подготовленных другими краеведами, особенно в «ОГВ». Это дает возможность выявлять в поздних публикациях слои, восходящие к более ранним текстам, а если текст не дошел до наших дней, отчасти восстановить его содержание. В таких случаях возможно применять методику, аналогичную методике исследования летописных сводов, разработанную А. А. Шахматовым. Причем для успеха подобных реконструкций огромное значение имеет знание истории краеведения каждого конкретного региона.
Известна публикация трех сказок из собрания Баласогло, сделанная известным этнографом С. В. Максимовым6 в 1897 году в журнале «Живая старина». Максимов опубликовал сказки «О царе и портном» и «О царь-девице», записанные в Сенногубском погосте в Заонежье, и второй вариант («другой рассказ») сказки «О царь-девице», записанный в Вой-Наволоке [17; 112– 123]7. Известный этнограф высоко оценил собирательскую деятельность ссыльного краеведа, сравнивая его с Рыбниковым: «За десять лет до Рыбникова занимался в Олонецком крае собиранием материалов песенного народного творчества с не менее замечательным успехом некто Ба-ласогло. По крайней случайности он так же, как Рыбников, – истинный пионер этого дела в той местности (северо-восточной части губернии, в Заонежье), которую справедливо почитают сокровищницей эпической поэзии, был сослан сюда и также принят был на службу... и был человеком выдающихся способностей и широкого образования... Несчастный Баласогло испытаний ссылкой не выдержал – сошел с ума, но успев оставить крупные следы работ, исполненных с любовью тщательно. При полном отсутствии в то время руководящих указаний опыта и научной разработки предмета этот собиратель умел сам разобраться, и при этом в своих записях он сохранил оттенки новгородского наречия с обозначением ударений, затребованных олонецким говором и законами былинного стихотворного размера... Разбивать исследования на специальности с исключительною погонею за одною избранною, как привелось сделать это тому же Рыбникову, а в особенности Гильфердингу по отношению к былинам и Барсову – к причитаньям, Баласогло не нашел нужным. Ему все казалось драгоценностью, достойной памяти. Судя по остаткам этого сборника, случайно доставшимся мне в Москве, им по возможности преследовались все роды песенного творчества, записывались все обломки древнего народного эпоса, еще сохранившиеся в Заонежье». Значение деятельности Баласогло Максимов видел в том, что он был «первым пробившим тропу туда, где последующие и задние успели приобрести широкую известность и вполне заслуженную славу». Высокая оценка, данная Баласогло Максимовым, позволяет считать его видным фольклористом – предшественником П. Н. Рыбникова,
А. Ф. Гильфердинга и Е. В. Барсова, сделавшим первые конкретные шаги в открытии богатейшего русского фольклора Заонежья.
Таким образом, на основе изучения краеведческого наследия Баласогло можно сделать вывод, что это был деятельный и разносторонний исследователь. Именно он летом 1850 года осуществил первую фольклорно-этнографическую экспедицию по Олонецкому краю, в ходе которой собрал большой материал. Баласогло одним из первых стал записывать былины («старины») Олонецкого края, и именно его записи впервые были опубликованы, он первым собрал комплекс преданий о «панах» и попытался объяснить феномен их бытования, ему принадлежит инициатива сбора материалов о прозвищах местных жителей, то есть о самоидентификации местного крестьянского населения. Следует отметить, что он был первым российским исследователем, совершившим поездку к сегозерским карелам и собравшим фольклорно-этнографические материалы о них. К недостаткам краеведческого наследия Баласогло следует отнести отсутствие у него хорошего образования и поверхностность наблюдений. Несмотря на то что архив Баласог-ло не дошел до наших дней, его частично можно восстановить по публикациям других авторов, подготовленных на основе рукописей Баласогло. В условиях николаевского режима Баласогло, будучи ссыльным, не смог полностью раскрыть свой потенциал, хотя и стремился к этому. Другой причиной, помешавшей его краеведческой деятельности, было тяжелое состояние его нервной системы. Однако даже в этих условиях можно проследить влияние его трудов на краеведческую деятельность Дозе, Рыбникова, Петрова, Барсова, Максимова и других местных и общероссийских исследователей, сумевших добиться большего в изучении Олонецкого края.
Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, совместный конкурс РГНФ – академии Финляндии 2010 г., проект № 10-01-00631а/ф «Народ, разделенный границей».
ПРИМЕЧАНИЯ
Биографические сведения о А. П. Баласогло см.: [23; 27–28], [24; по указателю имен], [33; 113–218], [34; 145–146].
Об обществе петрашевцев и роли в нем А. П. Баласогло см. [4; 7].
Подробнее о К. М. Петрове см. [30; 351–374].
У В. Г. Базанова крестьянин назван «Меликов», но это явно результат неверного прочтения рукописи. В деревне Горка до революции жили зажиточные крестьяне, позднее купцы Мелеховы. Вероятно, именно у них на свадьбе и побывал А. П. Баласогло. В Горке до сих пор сохранился большой двухэтажный деревянный «Мелеховский дом» (сведения автора статьи, собранные летом 2001 года).
Впервые вопрос о записях былин, сделанных А. П. Баласогло, и их влиянии на П. Н. Рыбникова рассмотрен в работе [31; 44–47].
Биографические сведения и литературу о С. В. Максимове см. [28; 485–488].
Рукопись текста сказок хранится в Архиве русского географического общества в Санкт-Петербурге.
Список литературы Фольклорная и этнографическая деятельность петрашевца А. П. Баласогло в петрозаводской ссылке
- Баласогло А. П. Проект учреждения книжного склада с библиотекой и типографией//Философские и общественно-политические произведения петрашевцев/Под ред. В. Е. Евграфова. М.: Политиздат, 1953. С. 520-557.
- Барсов Е. В. Чудские памятники и предания о панах//ПКОГ на 1867 год. Петрозаводск, 1867. Отд. 3. С. 113-130.
- Белозерский В. М. Каргополь. Исторический очерк//ПКОГ на 1858 год. Петрозаводск, 1858. С. 167-203.
- Дело А. П. Баласогло//Дело петрашевцев. Т. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 13-154.
- Извлечения из писем П. Н. Рыбникова//Песни, собранные Рыбниковым. Т. 3. Петрозаводск: Карелия, 1991. С. 231-250.
- Клементьев А. Народные поговорки о городах и племенах Олонецкого края//ОГВ. 1873. № 13.
- Лисичка-сестричка и волк//Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1957. С. 3-9.
- Максимов С. В. Замечания по поводу издания народных сказок//Живая старина. 1897. Вып. 1. Отд. 1. С. 48-56.
- Митропольский П. Смутное время в народных преданиях и памятниках Олонецкой губернии//Олонецкий сборник. Вып. 3. Петрозаводск: Губерн. тип., 1894. С. 243-255 (перепечатано из ОГВ. № 70, 71, 73, 75).
- Петров К. М. Народные предания Олонецкой губернии//Русский дневник. 1859. № 93 (перепечатано в ОГВ, 1860. № 1, 2, 27, 28).
- Петров К. М. Присловья в Олонецкой губернии//Русский дневник. 1859. № 119 (перепечатано в ОГВ. 1860. № 33).
- Петров К. М. Заплачки в Олонецкой губернии//ОГВ. 1863. № 3-4.
- Петров К. М. Провинциальные писатели и статистики//Северный вестник. 1887. № 4. С. 82-86.
- Повесть временных лет. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 1. 406 с.
- Предания о панах в Олонецкой губернии (извлечено из бумаг А. П. Б.)//ОГВ. 1857. № 20, 22, 23.
- Рыбников П. Н. Заметка собирателя//Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 1. Петрозаводск: Карелия, 1989. С. 47-83.
- Сказки. Приложения к заметке С. В. Максимова «Замечания по поводу издания народных сказок»//Живая старина. 1897. Вып. 1. Отд. 2. С. 112-123.
- Соловей Будимирович//Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 2. Петрозаводск: Карелия, 1990. С. 520-522 (текст), 566 (комментарий).
- Старина о Василье//ОГВ. 1856. № 13.
- Старина о Соловье Будимировиче//ОГВ. 1857. № 30-32.
- Эпизод из истории нашего народоведения//Труд. 1890. Т. 6. № 8. С. 156 (автор: М. С-кий).
- Базанов В. Г. Карелия в русской литературе и фольклористике XIX века. Петрозаводск: Карелия, 1955. 310 с.
- Базанов В. Г. Поэзия русского Севера. Петрозаводск: Карелия, 1980. 288 с.
- Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л.: Наука, 1988. 234 с.
- Костин А. Г. Православная Пудога. Петрозаводск, 1994. 47 с.
- Криничная Н. А. Северные предания. Л., 1978. 256 с.
- Криничная Н. А. Предания Русского Севера. СПб.: Наука, 1991. 328 с.
- Лебедев Ю. В. Максимов Сергей Васильевич//Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т. 3. М.: Большая российская энциклопедия, 1994. С. 485-488.
- Пашков А. М. Предания о «панах» как источник по истории Смутного времени на Русском Севере//Реализм исторического мышления. Проблемы отечественной истории периода феодализма. Чтения, посвященные памяти
- А. Л. Станиславского: Тезисы докладов и сообщений. М.: РГГУ, 1991. С. 199-200.
- Пашков А. М. К. М. Петров -исследователь Вытегорского края//Вытегра. Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1997. С. 351-374.
- Разумова А. П. Из истории русской фольклористики. П. Н. Рыбников. П. С. Ефименко. М.; Л.: АН СССР, 1954. 143 с.
- Разумова И. А. П. Н. Рыбников//Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. 1. Петрозаводск: Карелия, 1989. С. 5-43.
- Тхоржевский С. С. Искатель истины//Тхоржевский С. С. Портреты пером. М.: Книга, 1986. С. 113-218.
- Тхоржевский С. С. Баласогло Александр Пантелеймонович//Русские писатели 1800-1917 гг. Биографический словарь. Т. 1. М.: Большая российская энциклопедия, 1992. С. 145-146.