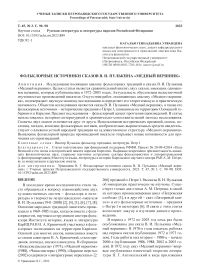Фольклорные источники сказов В. И. Пулькина «Медный вершник»
Автор: Урванцева Наталья Геннадьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русская литература и литературы народов Российской Федерации
Статья в выпуске: 3 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено анализу фольклорных традиций в сказах В. И. Пулькина «Медный вершник». Целью статьи является сравнительный анализ двух сказов, имеющих одинаковое название, которые публиковались в 1972-2003 годах. Актуальность обусловлена недостаточной изученностью произведений писателя. Отсутствие работ, посвященных анализу «Медного вершника», подтверждает научную новизну исследования и определяет его теоретическую и практическую значимость. Объектом исследования являются сказы В. И. Пулькина «Медный вершник», а также его фольклорные источники исторические предания о Петре I, записанные на территории Олонецкой губернии и в Карелии. Предмет исследования фольклорный аспект прочтения произведений. В статье использовались историко-литературный и сравнительно-сопоставительный методы исследования. Сюжеты двух сказов отличаются друг от друга. Использование исторических преданий, сказок, пословиц, загадок, комплекс фольклорных мотивов, изобразительно-выразительных средств свидетельствуют о влиянии устной народной традиции на художественную структуру «Медного вершника». Выявление фольклорной природы произведений писателя открывает новые возможности для прочтения его произведений.
Виктор пулькин, фольклор, предания, литература, петр i
Короткий адрес: https://sciup.org/147239881
IDR: 147239881 | УДК: 82-3 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.889
Текст научной статьи Фольклорные источники сказов В. И. Пулькина «Медный вершник»
В последнее время исследователи стали часто обращаться к вопросу взаимодействия двух художественных систем – фольклора и литературы в творчестве петрозаводского писателя В. И. Пулькина (1941–2008) [2], [4], [5], [6], [7], [8]. Освоение народных традиций писателем происходило в 1969–1985 годах, когда он вместе с фольклористом, научным сотрудником сектора фольклора Института истории, языка и литературы КарНЦ РАН Н. А. Криничной участвовал в фольклорных экспедициях на территории Карелии. Основой для многих сказов, написанных вместе со своим соавтором Н. А. Криничной, стали предания, легенды, сказки и анекдоты. В сборниках «Кижские рассказы» (1973), «Медный вершник» (1988), «Чаша мастера» (1990), «Царские персты» (2002) содержатся «литературные пересказы» [2:
206] преданий о Петре I. Рассказы В. И. Пулькина об императоре практически не изучены. Существует только две статьи А. М. Петрова, в одной из которых проанализирован цикл «Петровская слобода» [5], а в другой – сказ «Лазоревый камзол» и его фольклорные источники – предания о Петре I и вытегорах [6]. В связи с этим статья восполняет лакуну в изучении данного произведения.
В период с 1972 по 2003 год семь раз были опубликованы два сказа В. И. Пулькина «Медный вершник». В 1970-е годы писатель работал над первым сказом (публикации 1972 и 1973 годов). Годы работы над вторым – 1980-е – начало 2000-х (публикации 1986, 1988, 2002 и 2003 годов). В 1972 году сказ «Медный вершник»1 впервые опубликовал известный теоретик литературы П. Г. Антокольский в виде приложения к своему очерку «Медный всадник»2, в котором он рассмотрел образ Медного всадника в Петербургском тексте русской литературы. Критик познакомился с писателем, который показал ему сказ и неопубликованные записи преданий, «сделанные в самые последние годы со слов глубоких стариков – хранителей традиции, знатоков местного своеобычного говора»3. В 1973 году «Медный вершник» вошел в сборник «Кижские рассказы»4 и помещен в разделе «Тястенники»5. Две публикации сказа были сделаны в 1986 году: в журнале «Нева»6 в рубрике «Командировка» и в журнале «Вокруг света»7 в рубрике «Мифы, сказки, легенды». В 1988 году вышла книга «Медный вершник: Сказы о Петре Первом»8 в соавторстве с Н. А. Криничной, в которой был опубликован одноименный сказ. В 2002 году он помещен в сборник «Царские персты: Сказы о Петре Великом»9. «Медный вершник» посвящен памяти П. Г. Антокольского. В следующем году сказ можно было прочитать в журнале «Народное творчество»10 в рубрике «Были-небыли».
СКАЗ В. И. ПУЛЬКИНА «МЕДНЫЙ ВЕРШНИК» 1970-х ГОДОВ
Предания о Петре I как источники первой версии «Медного вершника»
В начале сказа В. И. Пулькина «Медный вершник» 1972 и 1973 годов упоминается предание «Петр I – кум» (или, как его иногда называют фольклористы, «Серебряная чарка Петра Великого»). Впервые его опубликовал в 1838 году друг М. Ю. Лермонтова Святослав Афанасьевич Раевский (1808–1876) в газете «Олонецкие губернские ведомости» (далее ОГВ)11, находившийся в 1837–1839 годах в Петрозаводске в ссылке за распространение стихотворения «Смерть поэта»12. Предание о кумовстве царя с подданными записывали также Г. С. Епифанов, Е. В. Барсов, В. A. Дашков, архиепископ Игнатий (М. А. Семенов), В. Н. Майнов, В. П. Мегорский13. Его часто перепечатывали в «ОГВ»14, в центральных периодических изданиях («Древняя и новая Россия», «Мирской вестник», «Дело»), а также в книгах и сборниках. Н. А. Криничная и В. И. Пулькин хорошо знали этот сюжет. В 1960–1980-х годах они записали его варианты в фольклорных экспедициях15.
В предании «Петр I – кум» выделяются сюжетообразующие мотивы пожалования, одаривания царем своих подданных (М-4з) и кумовство царя с подданными (М-9)16. Петр I был крестным крестьянского ребенка и подарил серебряную чарку, из которой пил анисовую водку, куме (родителям новорожденного и др.).
Фольклорной основой первой версии сказа В. И. Пулькин «Медный вершник» стало карельское предание «Петр Первый и чудесный конь». В нем используется традиционный мотив добывания чудесного коня (1525 В)18, добывания коня вождем / царем (М-3), характерный для структуры сюжетов былинного эпоса, волшебной и бытовой сказки. В 1945 году фольклорист В. Я. Евсеев зафиксировал это предание от Н. А. Терентьева17. Петр I узнал о том, что в Финляндии имеется чудесный конь, и захотел его приобрести. Работая у финского князя конюхом, он подслушал, что на нем никто не может ездить. Царь добывает коня благодаря ловкости и хитрости. Император «на нем умчался и в Питер прискакал, и еще теперь он там около реки верхом на нем сидит» (Северные предания: 154).
Сказ «Медный вершник» 1972 и 1973 годов
Повествование идет от лица рассказчика-повествователя. Начало сказа насыщено топонимами: Шуньгская ярмарка, Поморье, Кижи, Лижма, Кяппесельга и Ленинград. Рассказчик вспоминает о походе Петра I в 1702 году по Осударевой дороге: «Да ведь осударь в наших местах бывал. Корабли тащил по дремучим лесам, вплавь в водопады пускался» (Кижские рассказы: 66).
Для привлечения внимания и установления связи между слушателем в начале «Медного вершника» рассказчик упоминает о царской чарке:
«А на самой околице у дороги, что на Кяппесельгу, дед живет в маленьком домике. <…> Кубок-чашечку такую берет старик из поставца, а на нем узор будто старинный. “Царская! Великого Петра!” Выпьет и обратно поставит. Она ему от отца доста лась, а отцу от деда» (Кижские рассказы: 229–230).
В сказе появляется описание внешности императора, которого не было в исторических народных преданиях:
«Нрав его был веселый и буйный – такой, что ленивого с места стронет, а с работником – будь ты хоть самый простой плотник – по чарке выпьет, деревенским рыбником закусит, чарку царскую на память оставит» (Кижские рассказы: 66–67).
«Из-под кряжика идет меж рябин добрый молодец. Лицо круглое, безбородое – только усики черные… Видать, холостой ещё. Подошел, приветно поздоровался с мужиком <…>» (Кижские рассказы: 67).
Петру нужен «могучий крестьянский конь», потому что, по его словам, «ни один конь под моей рукой не устоял, ни один меня не держит» (Кижские рассказы: 67). Мужик говорит, что «конь не продажный» (Антокольский: 229)19. «Сам я Бурушку выходил, из-под матки жеребеночком взял, в шапке домой принес» (Кижские рассказы: 67).
В предании, записанном А. Д. Георгиевским, слуги воруют коня у мужика. В сказе В. И. Пуль-кин отсутствует фольклорный мотив воровства. Царь сам добывает чудесного кижского коня. Для его получения император должен отгадать две загадки мужика:
«Перво: отчего это у меня борода черная, а голова белая?.. Ишо: работаем это мы с Бурушкой, работаем, а как хлеб поспеет, отжин-то отгуляем, тут я урожай на три части и делю! Первое дело – долги отдам, второе дело – в долг ссужу, третье – в воду смечу!» (Кижские рассказы: 68).
Автор использовал в «Медном вершнике» фольклорный мотив «Трудная задача и ее решение». В выполнении определенных задач (загадок) можно увидеть связь с традиционной волшебной сказкой, когда герой, добиваясь определенной цели, совершает ряд подвигов (отгадывает загадки). В свою очередь император попросил отгадать мужика, кто он. Мужик, «хитрой человек», узнал императора еще на пашне, но не подал виду и называл его сначала «добрым человеком», «солдатом», «служивым».
«Нет, ты осударь Великий Петр! – усмехнулся мужик. – Я тебя сразу опознал...» (Антокольский: 230).
«Нет, ты осударь Великий Петр! – говорит мужик, хитрой человек. – Я тебя сразу опознал...» (Кижские рассказы: 68).
Крестьянин дарит богатырского коня императору. «Ты Бурку приметил, да и сам ему по нраву пришел». «Ну, вот пахоту отпашу – и езжай!..» (Кижские рассказы: 68).
Автор показывает быт мужика, его избу. Пословицы служат средством речевой характеристики крестьянина: «Каждый зять сам любит взять!» (Антокольский: 230), «Каждый зять сам ладит взять!» (Кижские рассказы: 68)20. В речи императора тоже появляются пословицы. Обращаясь к мужику, он говорит: «Чем завираться, лучше молча почесаться» (Кижские рассказы: 68)21, «Лошадь человеку крылья!..» (Кижские рассказы: 68)22. На что крестьянин отвечает ему: «Возит воду, возит и воеводу!» (Кижские рассказы: 68)23. Из его речи мы узнаем о заонеж-ском обычае отпускать бороду после свадьбы: «Бороду-то у нас в Кижах, как женятся, отпускают» (Кижские рассказы: 68).
Впервые в сказе крестьянский конь, «кижский кряжик», появляется в сцене пахоты: «<…> Лошадь, конечно, была не маленькая. Бурушкой звали! Справный такой конишко. Идет себе да идет, борозду ведет» (Кижские рассказы: 67). Мужик называет коня Бурушка, Бурка. Виктор Пулькин позаимствовал это имя из русской волшебной сказки («Сивка-Бурка») и былины («Илья Муромец и соловей-разбойник», «Добрыня и змей» и др.). Конь Ильи Муромца был бурый и получил прозвище Бурушка24. В репертуаре династии Рябининых-Андреевых бытовали былины «Илья Муромец и соловей-разбойник» и «Добры-ня и змей». Былинного коня богатыря Добрыни Никитича зовут Бурушка. В былине «Добрыня и змей» конь Бурушка Добрыни Никитича вместе со своим хозяином сражается со Змеем Горы-нычем25. У богатыря Дюка Степановича, героя киевского цикла былин, тоже был Бурушка26. В. И. Пулькин как житель Заонежья, работавший много лет в музее-заповеднике «Кижи», был знаком с этими сюжетами.
Имя коня Бурка выражает значение темно-рыжей или темно-красной масти27. При его описании В. И. Пулькин использует эпитеты фольклорного происхождения: «добрый конь» (Кижские рассказы: 67), «верный конь» (Кижские рассказы: 69). Бурка становится верным другом, незаменимым ратным помощником и спутником императора. В былинах и волшебных сказках конь часто выступает в качестве боевого богатырского товарища и спасает своего хозяина от смерти. В рассказе сохраняются стереотипные ассоциации, связанные с этим животным: честность, верность, трудолюбие, смелость, скорость и сила.
Егорий Храбрый (Георгий Победоносец) из русского духовного стиха борется со Змеем28. Конь помогал змееборцу, затаптывая врага. Автор использовал в рассказе архаичный мотив змееборчества, распространенный в русском фольклоре (былинах, сказках, заговорах и духовных стихах). С помощью сказочных формул описана честная служба крестьянского коня Петру:
«В битве несметное число пушек метило в осуда-ря-вершника. Ядра конь на свою грудь принимал. Летит Бурка по полю брани, копытом силу вражью разит, хвостом прах метет! Осударь паруса взденет, на корабле плывет в заморские земли. Конь по берегу ходит, волну бьет копытом, море смиряет. Враги по-змеиному, тайно хотят царя уязвить, верный конь тех змей тяжелым копытом топчет!» (Кижские рассказы: 69).
Император очищает русскую землю от «свей-ских пушкарей» (мотив С «Борьба с антагонистами») с помощью волшебного помощника Бу-рушки.
На связь сказа с былиной указывает употребление писателем в первой версии «Медного вершника» такого образного языкового сред- ства, как постоянные фольклорные эпитеты. В. И. Пулькин называет Петра I «добрым человеком», «добрым молодцем»29, коня Буруш-ку – «добрым конем», «верным конем». Лексическими маркерами былины выступают лексемы «брусчатые лавки», «косивчатые околенки», «си-дючи».
Авторское отношение к коню передается с помощью диминутивов: Бур ушк а, кон ишк о30. При описании крестьянского быта и утвари употребляются имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ечк- и -к- : чаш еч ка, нив к а, сош к а.
СКАЗ В. И. ПУЛЬКИНА
«МЕДНЫЙ ВЕРШНИК» 1986–2003 ГОДОВ
Предание «Конь Петра Великого» как источник «Медного вершника»
Источником второго сказа «Медного вершника» В. И. Пулькина стало предание «Конь Петра Великого», которое записал учитель, этнограф, действительный член Олонецкого губернского статистического комитета Александр Дмитриевич Георгиевский (1854/1855 – после 1916 года), когда он плыл по реке Свирь. Впервые оно было опубликовано в 1899 году в «ОГВ»31. В мае 1903 года это предание перепечатали центральные периодические издания – «Санкт-Петербургские ведомости» и «Новое вре-мя»32. В дальнейшем текст вошел в монографию В. Г. Базанова «Народная словесность Карелии» [1: 145–146], в сборники, составленные Н. А. Криничной «Северные предания», «Легенды. Предания. Бывальщины»33 и Б. Н. Путиловым «Петр Великий: Предания. Легенды. Анекдоты. Сказки. Песни», «Петр Великий в преданиях, легендах, анекдотах, сказках, песнях»34.
Сюжет основан на народных рассказах жителей Заонежья о коне, который впоследствии послужил «моделью» для отливки первого конного бронзового памятника Петру I. В его структуру входит мотив проявления необычайной физической силы во внешности и характере героя, связанный с образом Петра I [3: 201]. Император
«и вѣсомъ былъ великiй, насъ троихъ бы онъ на вѣсахъ перетянулъ: кони его возить не могли, проѣдетъ верхомъ версты двѣ, три на конѣ и хоть пѣшкомъ иди, лошадь устанетъ, спотыкается, а бѣжать совсѣмъ не мо-жетъ, а царю ли пѣшкомъ ходить?»35.
Петр I приказал достать для него коня. В За-онежье у крестьянина был такой конь, «что, пожалуй, другого такого и не бывало и не бу-детъ больше: красивый, рослый, копыта съ тарелку были, здоровенный конище, а самъ – сми-ренство»36.
В предании рассказывается, как зимой два человека хотели купить у крестьянина коня, но он не продал. Весной мужик отпустил коня на ухожье37, и тот пропал. Через два года он узнал от барина, проезжавшего через деревню, что на коне ездит сам император. Мужик пришел в Питер, чтобы вернуть коня. По просьбе крестьянина человек написал прошение царю о воровстве. Через несколько дней он встретился с Петром I на улице, опознал своего Карюшку и по приметам доказал, что это его конь. Справедливый император отпустил мужика домой, дал ему 80 золотых и подарил немецкое платье. Заканчивается предание словами: «<…> въ Питерѣ памятникъ то есть, гдѣ Петръ Великiй на конѣ сидитъ, а конь на дыбахъ, такъ такой точно конь и у мужика былъ»38.
В этой же публикации А. Д. Георгиевского было еще одно предание, названное фольклористами «Каменный всадник», о змее, обвившей ноги коня императора. Оно восходит к петербургским легендам о Медном всаднике. В 1899– 1991 годах предание было зафиксировано на территории Олонецкой и Вологодской губерний, в Карелии, Архангельской области, Тверской области и в Западной Сибири39. 23 августа 1970 года Н. А. Криничная и В. И. Пулькин записали еще один вариант от малограмотного Т. Ф. Малыхина в Архангельской области40. Писатель не использовал этот текст в «Медном вершнике».
Сказ «Медный вершник» 1986–2003 годов
Второй сказ публиковался в 1986 (2 раза), 1988, 2002 и 2003 годах. Он значительно отличается от сказа 1970-х годов. Сказ 1980-х годов начинается с гиперболизированного изображения физических данных Петра I, которое является средством идеализации положительного героя. Автор рисует былинно-сказочный образ царя.
Георгиевский
Нева
Вокруг света Медный вершник Царские персты
«Петръ Великiй <…> и вѣсомъ былъ великiй, насъ троихъ бы онъ на вѣсахъ перетянулъ: кони его возить не могли, проѣдетъ верхомъ версты двѣ, три на конѣ и хоть пѣшкомъ иди, лошадь устанетъ, спотыкается, а бѣжать совсѣмъ не можетъ, а царю ли пѣшкомъ ходить?» (3).
«Осударь был и ростом велик. Его, сказывают, кони нести не могли. Проедет версты три – и хоть пеш беги» (Нева: 196, Вокруг света: 46, Медный вершник: 105).
«Его кони нести не замогли. Проедет версты три – и хоть пеш беги, лошадушку в подводу веди» (135).
В. И. Пулькин сравнивает императора с горой: «Стоит это на бережке Невы-реки. Видит: человек на коне, как гора на горе! Кто таков? Великий Петр» (Царские персты: 135).
Медный вершник
« Петр сердится, гремит, как вешний гром. Не любил воров да пьяниц <…>» (105).
Царские персты
«Петр сердится. Сам не любил воров да пьяниц, чуже-едов. Грозен до них бывал и на расправу лют» (136).
В «Медном вершнике» наблюдается совпадение имени коня крестьянина с фольклорным источником – Карюшко, Карий. Карий – это название лошадиной масти и колоративный эпитет лошади41.
Император хотел иметь коня под стать себе. В Кижах у мужика был богатырский конь. Как и в фольклорном тексте, появляется внешнее описание коня, отсутствующее в сказе 1970-х годов. Писатель сделал акцент на изображение копыт («копытища с плетеную тарелку – чарушу»), его физической силы («сам могутный»), рост («как стог сена») и характер коня (смирность, ласковость). Текстуальные совпадения с преданием об уникальности Кария есть только в публикации 1988 года в журнале «Вокруг света».
Георгиевский
Нева
Вокруг света
Царские персты
«А въ нашей губернiи, въ Заонежьѣ, былъ у одного крестьянина такой конь, что, пожалуй, другого такого и не бывало и не бу-детъ больше: красивый, рослый, копыта съ тарелку были, здоровенный конище, а самъ – смиренство» (3).
«А в Заонежье у крестьянина возрос таков жеребец – копытища с плетену тарелку – чарушу, сам как стог. А смирен, к хозяину ласков, как дитя» (196).
«А в Заонежье у крестьянина возрос таков жеребец, что другого-иного, пожалуй, и на свете не было. Копыта с плетеную тарелку – чарушу, сам могутный. А уж смирен, к хозяину ласковый, как дитя!» (46).
«А в Заонежье у крестьянина возрос жеребец – копытища с плетену тарелку – чару-шу. Сам – что стог. А смирен, к хозяину ласков! Как дитя!» (135).
Как и в фольклорном тексте, здесь появляется мотив воровства. Слуги Петра давали крестьянину большую цену за «доброго коня». «Не продал мужик: “Кормилец семейству”» (Царские персты: 135). Весной крестьянин отпустил «доброго коня» в луга, а тот потерялся.
В публикациях 1980-х годов имеется указание на место жительства хозяина коня: «кижский был, с деревни Мигуры мужик-то» (Вокруг света: 46). В сборнике «Царские персты» писатель официально называет крестьянина «гражданином»: «Кижский он был, мужик-то. Гражданин деревни Мигуры» (Царские персты: 135). В публикациях сказа из журнала «Нева», сборников «Медный вершник» и «Царские персты» имеется информация о профессии крестьянина: «Мы, заонежские, в век в Питер на заработки ухожи. И мужик пошел – плотничать.
Бревна на тес пластать» (Царские персты: 135). Основным местом, куда направлялись отходные крестьяне Олонецкой губернии в поисках заработка, был Петербург. В отличие от фольклорного предания «Конь Петра Великого» в сказе отсутствуют поиски царя в Питере, написание ему прошения о воровстве. Мужик пошел плотничать и увидел Петра I на своем коне. Сцена встречи мужика и коня полна психологизма: «Ка-рюшко, Карий! – зовет. И конь подошел, кижани-ну голову на плечико кладет» (Нева: 196).
В публикациях 2002–2003 годов более глубоко представлен «очеловеченный образ» коня:
«Карюшко, Карий! И конь подошел. Кижанину голову на плечо положил. Вздохнул, будто всхлипнул» (Царские персты: 135). «Пошли мужик да конь. Друг другу плечьми притулились. Дошли до перекрестка-росстани. Встали. Один другому в глаза глядят. Да и к царю воз-вернулись» (Царские персты: 136).
В. И. Пулькин описывает внешнее проявление эмоционального состояния Петра I, которого не было в других публикациях: «Осударь на коне сидючи, головушку с плечика на плечико перекладывает, изумляется» (Царские персты: 136). Для изображения внешности императора в рассказе используются суффиксы субъективно-эмоциональной оценки -ушк- , - ик-: голов ушк а, ус ик и, плеч ик о.
Крестьянин рассказал царю, что у него украли коня:
«Осударь! – он коня за уздечку берет. – Ведь я при боге и царе белым днем под ясным солнышком вора поймал!» (Медный вершник: 105).
«Твоя милость! – мужик коня за серебряную уздечку берет. – Ведь я при Боге и царе, при ясном солнышке вора поймал! Рассуди!» (Царские персты: 136).
Мужик по приметным насечкам доказал царю, что Карий – это его конь. Император попросил прощения у крестьянина: «Осударь скраснел . <…> “Не я увел. Слуги по усердию. За обиду – прости”. С коня слез. Повод отдал» (Царские персты: 136). При помощи глагола эмоционального состояния «скраснел» автор показывает, что царю стыдно за своих верноподданных.
Мотивировка «добычи» коня появляется только в публикациях 2002 и 2003 годов. Конь нужен Петру I, чтобы воевать: «Император задумался: “Где мне коня добыть? На войну ехать…”» (Царские персты: 136). Встреча с царем заканчивается восстановлением справедливости. Крестьянин дарит коня императору, а Петр дает мужику деньги (мотивы М-4и «Одаривание деньгами» и М-18 «Мудрый суд»).
Георгиевский
Медный вершник
Царские персты
«Разспросилъ все у мужика, узналъ что у мужика коня украли и ему продали. Отпустилъ мужика домой, далъ ему за коня 80 золотыхъ и еще подарилъ нѣмецкое платье» (3).
«“Мне, конечно, пахать, семью кормить, тебе подати платить. Да ведь и у тебя забота немалая: Россию поднимать. Владай конем!” Не восемьдесят ли золотых дал Петр за коня? Или – сто. Да “спасибо” в придачу. Побежал мужик в Заонежье с прибытком» (106).
«Кижанин сказывает царю Петру: “Мне пахать и сеять. Семью кормить. Подати платить. Да ведь и у тебя забота не меньше моей: Россию поднимать. Владай конем!” Не восемьдесят ли золотых дал Петр за коня. Или – сто! Да “спасибо” в придачу. Побежал мужик на Онего с прибытком» (136).
В «Медном вершнике» 1980-х – 2000-х годов отсутствует змееборческий сюжет. При описании службы Бурки и Кария у царя в сказе 1970-х годов и 2000-х годов имеются текстуальные совпадения. В публикациях 1980-х годов данный фрагмент отсутствует.
Кижские рассказа
Конь Бурка
«Честно служил Великому Петру крестьянский конь. В битве несметное число пушек метило в осударя-верш-ника. Ядра конь на свою грудь принимал. Громыхнется ядро – да и летит восвояси – обратно» (69).
Царские персты
Конь Карий
«Честно служил Петру крестьянский конь. В битвах множество пушек метило в Осударя. Ядра конь на свою грудь принимал. Грохнет ядро о Карюшку – летит обрат» (136).
Публикации сказа 1980-х годов заканчиваются упоминанием о памятнике Петру I. Рассказчик описывает историю, используя местоимение множественного числа «мы». Он говорит от лица заонежских мужиков:
«Мы в Ленинград приедем – наперво на площадь идем, где медный Петр вершником на Карюшке, мужицком коне, сидит» (Нева: 197).
«А мы и теперь, бывает, как приедем в Ленинград, наперво к памятнику придем. На площадь, где медный Петр вершником на Карюшке, мужицком коне, сидит» (Вокруг света: 48).
«Мы в Ленинград приедем – наперво на площадь идем. Туда, где медный Петр на Карюшке, мужицком коне, сидит» (Медный вершник: 106).
В 2000-х годах автор добавил новый абзац:
«Пришло время – отлили Великого Петра из олонецкой меди искусные мастера. Литейщики тоже, видимо, нашего корня, знаткие. Мало ли на Александровском заводе персон отлито, чугунных решеток для садов и парков, дворцов и храмов. В Питер приедем – детей-внуков навестить – наперво на площадь придем, где Петр на Ка-рюшке как живой сидит» (Царские персты: 136).
Известно, что на Александровском заводе в Петрозаводске был цех художественного литья, в котором выпускались чугунные решетки, декоративные фигуры, хозяйственная утварь, гири, пуговицы для мундиров чиновников.
В сказах 1970-х и 2000-х годов памятник императору упоминается в начале и в конце:
«Видел, чай, в Ленинграде-то? Там из меди отлит Осударь – вершником, а под копытом у коня змея вьется» (Антокольский: 228).
«В Ленинграде из меди отлит осударь – вершником, а под копытом у коня змея вьется» (Кижские рассказы: 66).
В финале сказа 1970-х годов тема исторической памяти отсутствует. Сообщается только о наличии памятника в Ленинграде: «Так и отлили Петра Великого из звонкой меди искусные мастера вершником на могучем крестьянском коне!» (Антокольский: 230; Кижские рассказы: 69). В 2000-х годах появляется тема исторической памяти: «В Питере бываем – Петра вспоминаем. Особенно ежели к Медному вершнику на берег Невы придем. Про то у нас в Кижах слышано» (Царские персты: 135). Эта тема усилена во многих сказах сборника «Царские персты». А. М. Петров пришел к аналогичному выводу, проанализировав сказ В. И. Пуль-кина «Лазоревый камзол» [6: 105].
Рассказчик с гордостью говорит о коне:
«– Наш ведь конь-от Заонежский! – насечки на копыте ищем. – Должна мета быть» (Медный вершник: 106).
«– Наш ведь конь-от! – прилюдно насечку на копыте ищем.
– Заонежский! И должна, робятка, наша мета быть!» (Царские персты: 135).
Элементами фольклорного стиля является использование писателем лексико-семантических (разнокорневой тавтологии) повторов, широко распространенных в русском фольклоре (заговоры, былины, сказки, детские песенки и др.): « Погоревали, поплакали. Да что станешь делать?» (Царские персты: 135; Народное творчество: 51)42; «Дошли до перекрестка-росстани » (Царские персты: 136; Народное творчество: 51).
ВЫВОДЫ
Проведенный анализ двух сказов В. И. Пульки-на «Медный вершник» 1972 и 1973 годов и 1980-х – начала 2000-х годов позволил установить, что это два разных произведения. Второй сказ подвергался литературной переработке на протяжении почти 20 лет. Фольклорным источником первого сказа В. И. Пулькина «Медный вершник» стало предание «Петр Первый и чудесный конь», второго сказа – предание «Конь Петра Великого». Наблюдаются различия в сюжете, композиции, именах (конь Бурушка / Бурка и Карюшко / Карий). В первом сказе император сам добывает коня, во втором – его воруют слуги. В публикациях 2002 и 2003 годов более разработанная композиция, содержатся новые детали о памятнике Петру I, усиливается тема исторической памяти.
Сравнительно-сопоставительный анализ публикаций сказов «Медный вершник» позволяет выявить высокую степень сохранения комплекса фольклорных мотивов: пребывание исторического лица в конкретной местности (Г-9а), мотив добывания чудесного коня (1525 В), добывание коня вождем / царем (М-3), одаривание деньгами (М-4и), мудрый суд (М-18), мотив проявления необычайной физической силы во внешности и характере героя, воровства, змееборчества, борьбы с антагонистами. Фольклорные элементы как неотъемлемая часть входят в ткань произведений автора. Заимствуя материал из устного народного творчества, В. И. Пулькин был самостоятелен в разработке сюжета и образов «Медного вершника». Писатель использовал поэтическую систему фольклора, трансформировал ее в соответствии с художественными задачами и создал на ее основе оригинальные произведения.
Список литературы Фольклорные источники сказов В. И. Пулькина «Медный вершник»
- Базанов В. Г. Народная словесность Карелии. Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1947. 280 с.
- Дюжев Ю. И. На грани литературы и фольклора (о прозе В. И. Пулькина) // Межкультурные взаимодействия в полиэтничном пространстве пограничного региона: Материалы междунар. науч. конф. Петрозаводск, 2005. С. 206-211.
- Криничная Н. А. Русская народная историческая проза: Вопросы генезиса и структуры /Отв. ред. B. К. Соколова. Л.: Наука, 1987. 227 с.
- Неёлов Е. М. Сказка, фантастика, современность. Петрозаводск: Карелия, 1987. 124 с.
- Петров А. М. Многоликий Петрозаводск Виктора Пулькина: к проблеме локального текста русской литературы // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2021. Т. 43, № 6. С. 29-40.
- Петров А. М. Фольклорно-литературные связи в творчестве Виктора Пулькина (на материале рассказа "Лазоревый камзол") // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42, № 5. C. 100-107.
- Рогощенков И. К. В. И. Пулькин // История литературы Карелии: В 3 т. Т. 3. Петрозаводск: Изд-во ИЯЛИ КарНЦ РАН, 2000. С. 245-254.
- Шилова Н. Л. Фольклорная фантастика в "Кижских рассказах" Виктора Пулькина // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. Вып. 4. С. 247-261.