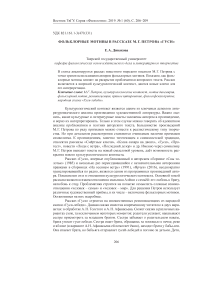Фольклорные мотивы в рассказе М. Г. Петрова "Гуси"
Автор: Дивакова Евгения Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется рассказ известного тверского писателя М. Г. Петрова с точки зрения использования автором фольклорных мотивов. Показано, как фольклорные мотивы влияют на раскрытие проблематики авторского текста. Рассказ включается в широкий культурологический контекст, даются новые ключи для его интерпретации.
М.г. петров, культурологические контекст, мотив двоемирия, фольклорный мотив, реминисценция, прямое цитирование, философская притча, народная сказка "гуси-лебеди"
Короткий адрес: https://sciup.org/146281354
IDR: 146281354 | УДК: 821.161.1-3(470.331)
Текст научной статьи Фольклорные мотивы в рассказе М. Г. Петрова "Гуси"
Культурологический контекст является одним из ключевых аспектов литературоведческого анализа произведения художественной литературы. Важно оценить, какие культурные и литературные пласты заложены автором в произведение, и верно их интерпретировать. Только в этом случае можно говорить об адекватном анализе проблематики и поэтики авторского текста. Большинство произведений М. Г. Петрова по ряду признаков можно отнести к реалистическому типу творчества. Но при детальном рассмотрении становится очевидным наличие признаков символизма. К произведениям, заметно тяготеющим к символистской традиции, относятся рассказы «Смёртные ключи», «Колка сахара на двоих», «Гуси», «Протест», повести «Люди с ветра», «Последний дозор» и др. Именно через символику М. Г. Петров выводит тексты на новый смысловой уровень, даёт возможность раскрытия нового культурологического контекста.
Рассказ «Гуси», впервые опубликованный в авторском сборнике «Сны золотые» (1985) и несколько раз переиздававшийся с незначительными авторскими правками в сборниках «На осеннем ветру» (1991), «Ярчук» (2016), неоднократно транслировавшийся по радио, является одним из программных произведений автора. Показателен он и в отношении культурологического контекста. Основной темой рассказа являются взаимоотношения мальчика Алёши с семьёй: его любовь к брату, нелюбовь к отцу. Проблематика строится на попытке осмыслить сложные взаимоотношения «человек – семья» и «человек – мир». Для решения Петров использует различные художественный приёмы, в их числе – включение фольклорных мотивов. Остановимся на них подробнее.
Рассказ «Гуси» строится на множественных реминисценциях из народной сказки «Гуси-лебеди». Данная сказка известна современному читателю в двух вариантах: в обработке А. Н. Толстого и А. Н. Афанасьева. Сюжет сказки в различных вариантах схож, за исключением некоторых моментов: родители уезжают, наказывают сестре присмотреть за младшим братом. Сестра забывает о родительском наказе, брата уносят гуси-лебеди. Сестра ищет брата, обращаясь за помощью к печке, реке и яблоне (в варианте А.Н. Афанасьева ей помогает ёжик), находит брата у бабы-яги. Она спасает брата, но баба-яга отправляет гусей-лебедей в погоню за детьми. Дети, скрываясь поочерёдно у яблони, реки и печки, благополучно возвращаются домой, гуси возвращаются к бабе-яге.
Сходство рассказа М. Г. Петрова с данной сказкой проявляется уже на уровне сюжетики. Так, завязка основного конфликта народной сказки и рассказа «Гуси» строится на неповиновении детей родительской воле:
«– Э! Друзья! А где гуси?!
“Гуси! – пронзило Алёшку. – Ёлки-палки-щи-моталки, я ж про гусей забыл! Когда я их последний раз видел?” И сразу вспомнил – после школы, в обед.
Время стояло голодное, послевоенное. Коза коровой считалась, молоко, как говорится, шилом хлебали, а всякую живность берегли до убоя пуще себя. Тут ещё по деревне стали пропадать гуси, и отец, уходя на работу утром, велел сегодня пораньше загнать гусей в сарай. Не найдя их сейчас, отец рассердился» [4, с. 65].
Ключевым для обоих произведений является мотив двоемирия, проявляющийся как на уровне сюжета, так и на уровне отдельных деталей. Так, в народной сказке он представлен прежде всего через образ бабы-яги (представительницы мира мёртвых) и символ тёмного леса. В рассказе Петрова этот мотив также реализуется, например, через символ сна. Сон считается пограничным состоянием между жизнью и смертью. В рассказе «Гуси», как и в народной сказке, старший ребёнок спасает младшего от гибели: «Сначала он мечтает, как они с Петькой лягут на завалинке, прижмутся друг к другу, уснут и замёрзнут. Потом ему становится жалко губить невиновного Петьку, и он решает умереть один. Это же не страшно, успокаивает он себя, задрёмывая. Умрёшь и станешь кем-нибудь, потому что люди должны в кого-то умирать, иначе куда они тогда деваются? А когда Петька вырастет большим и переедет в город, он придёт к нему однажды и скажет: “Здорово, Пётр Иванович, это ведь я, Алёшка. Я ведь не умер, только ты никому не говори…” <…>
– Лёха! Лё-ё-ха-аа! – слышит Алёшка сквозь сон Петькин голос, но открыть глаза, встать, откликнуться у него нет сил, и только когда Петька начинает тормошить его за плечи, он приходит в себя. Он долго не понимает, где он и почему кругом снег, и нет печки, и рядом не бабушка, а Петька.
– Лёшенька, миленький, поднимайся! – кричит ему Петька».
С миром мёртвых героя связывает и образ бабушки, который важен для разработки одной из основных проблем произведения, отношений «человек – семья». Именно о бабушке вспоминает Алёша во сне: о том, какая она была хорошая, как кормила их и «сказки сказывала». С воспоминаниями о бабушке связано прямое цитирование сказки «Гуси-лебеди»: «Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и понесли…» [Там же , с. 74], что ещё раз подтверждает связь рассказа с народной сказкой.
Помимо прямых отсылок к теме двоемирия, в рассказе «Гуси» присутствует и метафорическое противопоставление живой души неравнодушного и сопереживающего Алёши «омертвевшим» душам многих окружающих его людей, потерявших способность к состраданию и сопереживанию: «Он много знал такого, что не имело названий. Вот когда мальчишки сидят на брёвнах возле молокозавода и у безногого молоковоза дядьки Игната Артиллериста падает с телеги в грязь пустой бидон и тот просит, обращаясь ко всем, подать бидон, то Алёшке становится тоже без названия, а так, словно все могут не помогать пьяному калеке – и им за это ничего не будет, а он один не может. Или когда мальчишки над побирушкой смеются, ему тоже делается без названия» [3 , с. 142].
Отметим и частичное совпадение названий рассказа и сказки. Именно образ гусей вынесен в заглавие, хотя этот образ, по сути, центральным не является ни в одном, ни в другом тексте.
Символ гусей в данном случае используется автором рассказа в традиционном фольклорном значении. «В волочёбных песнях (Цикл славянских поздравительно-величальных песен, сопровождающих волочёбный обряд в первые дни Пасхи. – Прим. автора), имевших также ритуальное значение и считавшихся способом магического подчинения человеку сил природы, довольно часто фигурируют гуси-лебеди. Так, в одной из песен, записанных Павлом Васильевичем Шейном в Псковской губернии, есть исключительно интересное противопоставление:
Не гуси летят, не лебеди,
Христос воскрес на весь свет!
Имеет смысл в этой связи вспомнить, что и колядовщики, и волочёбники воспринимались в народной традиции как воплощение душ предков, которым подавалось ритуальное подаяние, и связь их с гусями-лебедями, судя по всему, была не случайной» [1]. На связь с фольклорной традицией волочёбной песни указывают заключительные предложения рассказа: «Поужинав, Алёшка полез на печь спать. Укрылся перелатанным разноцветными лоскутами одеялом, дождался Петьку и, когда тот стал засыпать, благодарно обнял его, как в раннем детстве, как в ночь перед Пасхой, когда была жива бабушка…» [4 , с. 75].
Прочтение символа гусей как образа духа предков согласуется с проблематикой рассказа. К мотивам взаимоотношения человека с его корнями относятся и нелюбовь Алёши к своему отцу, и любовь к брату, и воспоминания о бабушке, и его размышления о том, «куда люди умирают». Постоянные размышления мальчика и его предположение о перерождении также согласуются с мотивом воскрешения, продиктованным в том числе образом гусей. Важен в этом отношении и белый цвет гусей, противопоставляющийся тёмным, грязным, мрачным пейзажам. Тем ярче на фоне серости и мглы выделяются гуси и внезапно начавшийся снег. Снег, хотя и не согласуется со сказочными мотивами, является одним из самых сильных образов рассказа и одним из самых ярких символов, несущих свет, чистоту. Покрывая тёмную сырую землю, он несёт обновление и бессознательную веру в любовь и добро: «И вдруг пошёл снег. Алёшка даже сразу не понял, что случилось, когда перед ним дрогнуло и зашевелилось что-то большое, живое, тёплое и белое, стало расти, шириться, и вдруг чётко обозначились чёрные борозды. Посветлело, повеселело, потянуло далью и, как ни было Алёшке тревожно и одиноко, он обрадовался снегу. В ту же минуту он услышал гусиный вскрик. Одинокий, он пронзил внезапно побелевшее поле, и было в нём что-то такое согласное, родное, такое затаённо общее с этой гусиной белизной и неторопливым, вперевалочку, снегом, что Алёшка чуть не заплакал от нежданной радости» [Там же , с. 71–72].
Гуси, появляющиеся в эпизоде со снегом, – дикие, не те, которых ищут мальчики. Они, громко крича, пронеслись над самой головой Алёши. Образ диких гусей – очередная реминисценция из сказки «Гуси-лебеди», где гуси часто изображаются в полёте, сопровождаемом криками.
По словам В. А. Редькина, «угол преломления фольклорной традиции» находится в прямой зависимости от принадлежности автора «к конкретно-реалистическому или романтическому стилевому течению, к постмодернизму… Для одних самое важное в фольклоре – духовное начало, его нравственные богатства… Других привлекают яркие, броские фольклорные образы, ценные своей подлинностью и жизненной силой. Но во всех случаях элементы фольклора становятся стилеобразующим и жанрообразующим фактором в творчестве» [5, с. 52] современных писателей. Фольклорное начало является значимой чертой идиостиля М. Петрова, и преломляется оно в художественной ткани его произведений как средство раскрытия какого-то глу- бинного нравственного смысла. Тем самым М. Петров примыкает к такой тенденции «русского общественного сознания последних десятилетий XX – начала XXI века», как «актуализация религиозно-философской мысли», «обращение многих писателей к традициям древнерусской словесности, культуры, эстетики» [2, с. 41].
В рассказе М. Петрова «Гуси» фольклорные мотивы выполняют функцию раскрытия проблематики рассказа на символическом уровне. Реалистическое психологическое описание обретает метафизическую глубину. Символика образа гусей прорастает в фольклорную традицию, а та в свою очередь добавляет рассказу значимый со смысловой точки зрения идейно-эстетический контекст. В итоге небольшая зарисовка из жизни двух деревенских мальчиков прочитывается как философская притча о преодолении смерти силой любви. И в этом совпадает с главной пасхальной вестью, что позволяет определить этот рассказ как пасхальный.
Список литературы Фольклорные мотивы в рассказе М. Г. Петрова "Гуси"
- Жарникова С. В. Образы водоплавающих птиц в русской народной традиции //Комиссия научного туризма Русского Географического общества. URL: https://www.knt.org.ru/Jarnikova%20Obrazu%20Vodoplavay-ushih%20Ptici%201.htm (дата обращения: 21.02.2019).
- Николаева С. Ю. Жанровое своеобразие рассказа Ф. А. Абрамова «Из колена Аввакумова»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 41-48.
- Петров М. Г. Сны золотые: повести и рассказы. М.: Современник, 1985. 272 с.
- Петров М. Г. Ярчук. Рассказы, повесть. Тверь: Волга, 2016. 228 с.
- Редькин В. А. Стилевое своеобразие поэзии Гайды Лагздынь//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 49-55.