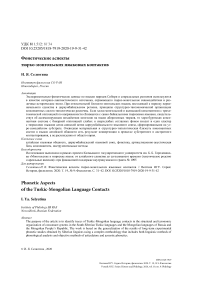Фонетические аспекты тюрко-монгольских языковых контактов
Автор: Селютина Ираида Яковлевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Экспериментально-фонетические данные по языкам народов Сибири и сопредельных регионов используются в качестве историко-лингвистического источника, отражающего тюрко-монгольские взаимодействия в различные исторические эпохи. При относительной близости монгольских языков, восходящей к периоду первоначального единства в циркумбайкальском регионе, принципы структурно-таксономической организации консонантных систем типологически различны. Если халха-монгольский и калмыцкий консонантизм с трихотомической оппозицией по напряженности сближается с саяно-байкальскими тюркскими языками, свидетельствуя об ассимилирующем воздействии монголов на языки аборигенных тюрков, то хори-бурятская консонантная система с бинарной оппозицией слабых и сверхслабых согласных фонем входит в один кластер с тюркскими языками алтае-саянской ветви циркумбайкальского языкового союза, сформированными на угро-самодийском субстрате. Очевидная материальная и структурно-типологическая близость консонантных систем в языках алтайской общности есть результат конвергенции в процессе субстратного и адстратного контактирования, а не расхождения от общего корня.
Алтайская языковая общность, циркумбайкальский языковой союз, фонетика, артикуляционно-акустическая база, консонантизм, инструментальные методы
Короткий адрес: https://sciup.org/147220481
IDR: 147220481 | УДК: 811.512: | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-9-31-42
Текст научной статьи Фонетические аспекты тюрко-монгольских языковых контактов
Проблема межэтнических и языковых контактов, происходивших на территории Сибири и сопредельных регионов в различные исторические эпохи и оказавших кардинальное влияние на формирование современного евразийского лингвистического ландшафта, несмотря на глубокий и длительный интерес ученых к различным аспектам языковых взаимодействий, не только не утратила своей актуальности, но и приобрела особую значимость в свете новейших достижений гуманитарных и междисциплинарных исследований.
Цель данной работы – выявление следов тюрко-монгольских языковых контактов в структурно-таксономической организации консонантных систем в южносибирских тюркских языках и монгольских языках России и Монгольской Народной Республики. Для определения архаичных и инновационных процессов в фонико-фонологических системах языков Сибири и сопредельных территорий ставится задача анализа и обобщения результатов многолетних экспериментально-фонетических изысканий сибирских лингвистов.
История и современное состояние изученности проблемы общности алтайских языков
Алтаистика как раздел языкознания, разрабатывающий проблемы общности тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, объясняет их несомненную материальную и структурно-типологическую близость либо как следствие генетического родства (алтаи-сты), либо как результат ареальных связей (антиалтаисты). Основополагающей в алтаистике является проблема сложения и развития тюрко-монгольской языковой общности, «реальное существование которой фактически и легло в основу гипотезы генетического родства так называемых алтайских языков» [Рассадин, 2011. С. 4]
Гипотеза о существовании алтайской языковой макросемьи вслед за Г. И. Рамстедтом [1957] обосновывается ее сторонниками (А. В. Дыбо, О. А. Мудрак, С. А. Старостин, F. Kort-landt, K. H. Menges, N. Poppe, M. I. Robbeets, T. Tekin) наличием большого количества структурных сходств на разных уровнях языковых систем, систематических фонетических корреляций, общих лексических и морфологических единиц и этимологических параллелей, являющихся в комплексе основанием для реконструкции единого алтайского праязыка [Starostin et al., 2003], а также пратюркского языкового состояния в связи с его положением среди алтайских [СИГТЯ, 2006; Дыбо, 2007]. Кроме тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков ряд лингвистов включают в алтайскую семью корейский и – с меньшей долей вероятности – японский. M I. Robbeets [2015] в результате диахронического анализа глагольной морфологии приходит к выводу о родстве вербальных суффиксов японского и алтайских языков (автор использует при этом термин Transeurasian languages ). Сопоставительный анализ лексических и фонетических эскимосско-алтайских изоглосс позволил О. А. Мудраку выявить «особую близость эскимосских языков к алтайским» и выдвинуть гипотезу их родства [Mudrak, 2008; Мудрак, 2011].
Другие компаративисты (А. В. Вовин, В. И. Рассадин, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, А. М. Щербак, G. Clauson, G. Doerfer, J. Janhunen, C. Shönig), разделяя контактную теорию В. Л. Котвича [1962], считают родство алтайских языков недоказанным, рассматривают существование большого числа языковых пересечений на субстантном и структурном уровнях как результат разновременных и разнохарактерных взаимодействий языков алтайской общности.
Эта точка зрения лингвистов подкрепляется и новейшими археологическими изысканиями. Результат изучения наиболее значимых основ древней материальной культуры является «серьезным антиалтаистским свидетельством, отрицающим изначальное единство и родство тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских культур, их носителей и, следовательно, присущих им языков» [Кызласов, 2011. С. 2]. Археологические данные опровергают единство происхождения тюрков и остальных народов алтайской языковой семьи, существующая ныне типологическая близость алтайских языков объясняется длительными контактами народов [Там же. С. 206].
Данные популяционной генетики также указывают на отсутствие родства алтайских языков, обосновывают природу связей как контактную и определяют источник общих элементов: «язык носителей мтДНК гаплогруппы С (и Y-гаплогруппы С3) явился тем донором, благодаря которому в настоящее время лингвисты отмечают схождения… между тюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурскими, уральскими, палеоазиатскими, малайско-полинезийскими и даже индоевропейскими языками» [Байтасов, 2013].
Методологическая база исследования
По мнению И. В. Кормушина, «перед алтаистикой… стоят задачи последовательного, глубокого и строгого применения… традиционных и новейших методик» [1990. С. 28]. Привлечение к анализу большого массива сопоставимых экспериментально-фонетических данных, полученных по языкам разных семей – тюркским, монгольским, тунгусо-маньчжурским, самодийским, обско-угорским, енисейским и палеоазиатским (всего изучены в различной степени звуковые системы 66 языков, диалектов и говоров 1), составляет научную новизну данного исследования, направленного на решение дискуссионных проблем языкового контактирования.
Комплексная экспериментально-фонетическая методика включает как собственно лингвистические методы фонологического анализа, так и снимающие фактор субъективности и влияния на ученых традиций индоевропеистики методы артикуляционной и акустической фонетики: статическое рентгено-, денто-, лабио-, лингво-, спектро- и пневмоосциллографи-рование, компьютерные программы создания и обработки звуковых файлов Speech Analyzer, Audacity, PRAAT и др.; с 2009 г. – магнитно-резонансное томографирование с использованием высокопольного магнитно-резонансного томографа Philips Achieva Nova Dual 1.5 T (Philips medical systems; Eindhoven, Netherlands).
Теоретические основы исследования
В качестве теоретического обоснования исследований фонетистов Сибири принята концепция использования данных экспериментальной фонетики для реконструкции истории языков и этнических групп.
Артикуляционно-акустическая база (ААБ) как система произносительных навыков в корреляции с их акустическими эффектами является одной из основных лингвистических универсалий, определяющих культурный код этноса и детерминирующих структурно-таксономическую специфику фонико-фонологических систем.
ААБ как динамический стереотип, формирующийся на ранней стадии существования этноса и обеспечивающий план выражения в процессе вербальной коммуникации, видоизменяясь, сохраняется в своих доминантных чертах до тех пор, пока этническая общность не утрачивает компактность проживания [Наделяев, 1980. С. 5–6; 1986а]. Эта способность к закреплению ААБ в коллективном сознании населения, к передаче из поколения в поколение делает ее одним из наиболее информативных исторических и лингвистических источников, особенно важным при решении проблем глоттогенеза бесписьменных народов Сибири и сопредельных территорий.
Исследования фонетистов базируются также на гипотезе о существовании циркумбай-кальского языкового союза, выдвинутой В. М. Наделяевым в 1980-е гг. и поддержанной археологом А. П. Окладниковым, тюркологом Е. И. Убрятовой, сибиреведом М. И. Черемисиной. Данные различных гуманитарных дисциплин позволили прийти к заключению о формировании лингвистического союза в I–XII вв. н. э. в процессе длительных разнохарактерных контактов части языков алтайской группы внутри существовавшего в южном Прибайкалье и Забайкалье более древнего лингвистического союза, сложившегося на доалтайском субстрате [Наделяев, 1986б. С. 4].
Представленные ниже некоторые результаты разработки теории и типологии ААБ, интерпретации полученного инструментальными методами массива фонетических данных, анализа традиционных и инновационных процессов в звуковых системах алтайских языков с позиций указанных теоретических установок свидетельствуют о том, что алтайская языковая общность уходит корнями в языковой союз как «тип ареальной лингвистической общности, представляющей собой группу неродственных контактирующих в процессе исторического развития языков и характеризующейся в результате этого взаимодействия общими структурно-типологическими признаками» [Там же. С. 5].
Языковые контакты на территории Сибири и сопредельных регионов: к истории формирования консонантных систем
Инструментальные данные свидетельствуют о функционировании в халха-монгольском и калмыцком языках, с одной стороны, и в байкало-саянских тюркских языках – тувинском и тофском (~ тофаларском), с другой стороны, консонантных систем с тройной оппозицией по степени напряженности: сильные / слабые / сверхслабые единицы. Такой тип систем может рассматриваться как рефлекс пратюркского состояния. В. М. Наделяев отмечает, что структурные особенности организации системы согласных тофского языка позволяют не только восстановить для консонантизма тюркского праязыка тройную градуальную оппозицию по напряженности, сняв тем самым постулируемое в тюркологии праязыковое тюркское противопоставление по глухости и звонкости, но и изъять из гипотетического пратюркского вокализма так называемые «первичные» долгие гласные, как относительно позднее явление [Наделяев, 1969. С. 236]. При этом в тувинском базовая оппозиция реализуется лишь в анлауте, в тофском же – в любом положении в слове, максимально проявляясь в конце корневых основ. Фонетические особенности позволяют считать тофский самостоятельным языком, образующим «вместе с языками соётов Бурятии, цаатанов, уйгуров и уйгуро-урянхайцев Монголии отдельный таёжный ареал. Тувинский же объединяется с языками кёк-мончаков и тувинцев Ценгельского сомона Монголии в другой, степной ареал. Оба эти ареала имеют определенные схождения… позволяющие объединить их в одну подгруппу саянских тюркских языков» [Рассадин, 2012. С. 9–11; 2014. С. 174]. Несколько иная точка зрения представлена И. В. Кормушиным, объединяющим языки тувинский, тофский, уйгуро-урянхайский (или язык цаатанов), ценгельских тувинцев и мончаков в тобаскую группу тюркских языков на основании общего классификационного признака – инлаутного дентального -d- [Корму-шин, 2002. С. 600].
Принимая во внимание основанную, в частности, на инструментальных фонетических данных гипотезу о том, что современные халха-монголы по происхождению являются древними тюрками [Наделяев, 1981. С. 15; 1986а. С. 12, 14], а их артикуляционно-акустическая база – преобразованная (не ранее XI в.) ААБ древних тюрок, можно рассматривать данную систему согласных уйгуро-огузского типа как исконную, в то время как тувинская фонологическая система сформировалась в результате тюркского суперстратного воздействия на язык автохтонного населения иного генезиса. Анализ археологических данных позволил И. Л. Кызласову высказать как наиболее вероятную версию об ассимиляции народами монгольской группы предшествующего тюркоязычного населения – раннесредневековых аборигенов нынешней Монголии и смежных с нею земель [Кызласов, 2011. С. 207].
Специфика тувинской консонантной системы указывает на нетюркский субстрат: предки современных тувинцев восприняли древний тюркский язык уйгурского типа через призму своей артикуляционно-акустической базы, для которой не были свойственны сильные согласные, скорее, у них были краткие и долгие консонанты [Наделяев, 1986в]. Изучение диалектов и говоров тувинского языка на данном синхронном срезе позволяет зафиксировать различные этапы инновационных процессов стирания противопоставления согласных по напряженности – в некоторых говорах, в большей мере развивающихся под давлением собственных внутренних законов, в отличие от более консервативного нормированного литературного языка [Сегленмей, 2010], количество сильных фонем сократилось, произошла частичная дефонологизация признака сильный / слабый [Кечил-оол, 2006. С. 332–334].
Трансформация тувинской консонантной системы, обусловленная влиянием субстрата, привела к перестройке вокализма – к появлению фарингализованных гласных фонем, а поскольку среди сибирских тюркских языков тувинский – язык с наиболее выраженным сингармонизмом, то здесь сформировался глоточный сингармонизм, распространяющийся как на вокальную, так и на консонантную оси словоформ [Дамбыра, 2005. С. 185–186; Кечил-оол, 2006. С. 329–330]. Основная функция тувинского сингармонизма – цельнооформлен-ность слова.
Возвращаясь к консонантным системам монгольских языков, следует отметить, что при относительной близости монгольских языков, восходящей к периоду первоначального единства в циркумбайкальском регионе, принципы структурно-таксономической организации консонантных систем типологически различны [Селютина, 2016. С. 73].
Как уже отмечалось, халха-монгольская и калмыцкая фонологические системы согласных организованы трихотомическим противопоставлением единиц по напряженности. Для халха-монгольского консонантизма системообразующим признаком является также наличие / от- сутствие умеренно выраженной палатализации настроек: выделяется 14 коррелятивных пар по мягкости / твёрдости; 3 фонемы - палатальная [j], сильная переднеязычная твёрдая фонема [C] - инновационная для халха-монгольской фонологической системы и ограниченная в функционировании заимствованной лексикой, и сверхслабая твёрдая [d] не имеют соответствий по смягченности / несмягченности артикуляции.
Специфику калмыцкого консонантизма определяет наличие развернутого фонологического ряда (передне-)среднеязычных согласных. Если в халха-монгольском передне-среднеязычные артикуляции реализуются факультативно или как комбинаторные оттенки мягких переднеязычных согласных фонем, в хори-бурятском среднеязычные малошумные [р] и [X] функционируют лишь на периферии системы, то калмыцкая система включает 7 среднеязычных фонем: [M], [MA], [N], [NB], [о], [R], [Q] [Биткеев, 1965. С. 38-62]. Инструментальное Ѣ ѳ ѳѢ Ѳ Ѳ исследование П. Ц. Биткеева убедительно показало, что оппозиция согласных по палатализо-ванности / непалатализованности не свойственна калмыцкому языку, в отличие от халхас-ского и бурятского.
Для хори-бурятского консонантизма сильная напряженность настроек неприемлема, согласные противопоставлены как шумные слабые и малошумные сверхслабые. Как и в халха-монгольском языке, в хори-бурятском языке оппозиция единиц по палатализованности / непалатализованности относится к числу релевантных - в языке функционируют 10 коррелятивных пар по смягченности / несмягченности [Соктоева, 1988. С. 119-126]. Специфику хо-ри-бурятского консонантизма составляет отсутствие аффрикат, продуктивных в халха-мон-гольском и калмыцком. По мнению В. И. Рассадина, утрата смычного компонента в составе общемонгольских аффрикат, произошедшая вследствие ослабления напряженности артикулирующих органов - спонтанного или под воздействием экстралингвистических факторов, например субстратного (видимо, эвенкийского) влияния, - привела к усилению щелевого компонента, аффриката трансформировалась в щелевой звук [Рассадин, 1982. С. 132-149].
Особенностью хори-бурятского консонантизма по сравнению с другими монгольскими языками является также функционирование в системе фарингального согласного h . Ряд специалистов трактуют появление h из общемонгольского свистящего с и деаффрикатизацию смычно-щелевых консонантов как результат имманентного развития фонологической системы по пути экономии артикуляторных усилий [Будаев, 1992. С. 47]; «ослабление артикуляций вообще - процесс, который продолжался в северных (бурятских) диалектах практически до наших дней» [Кузьменков, 2004. С. 191]. Другие бурятоведы считают фарингальный h наследием эвенкийского фонетического субстрата в бурятском языке, сформировавшемся на циркумбайкальской территории в результате длительного взаимодействия эвенкийского и монгольского этносов [Бураев, 1987]. На наш взгляд, точка зрения В. И. Рассадина объединяет эти подходы: «…протобурятские племена, войдя в Прибайкалье в контакт с аборигенными племенами (эвенков, самодийцев или кетов…) <…> испытали их влияние в виде субстрата и адстрата, усвоив их артикуляционную базу <…>. Затем, когда усилилась <…> тенденция ослабления напряженности артикулирующих органов, <…> произошло ослабление аффрикат в проточные, <^> ослабление s в h и d» [Рассадин, 1982. С. 159]. В процессе регионального взаимодействия языка монгольского этноса с субстратным эвенкийским произошла трансформация фонико-фонологической системы, появился ряд инновационных особенностей, обусловленных спецификой артикуляционной базы контактирующего эвенкийского языка, при сохранении традиционно-монгольских лексической и грамматической систем.
Таким образом, если в халха-монгольском и калмыцком языках консонантизм структурируется тройной оппозицией по напряженности, обнаруживая сходство с южносибирскими тюркскими языками (тувинский, тофский) саяно-байкальского этноареала, то хори-бурятская система с бинарным противопоставлением слабых и сверхслабых фонем близка к алтае- саянским тюркским (алтайский, хакасский) и к уральским угро-самодийским языкам, для которых сильнонапряженные артикуляции неприемлемы.
Якутский язык относится к числу тюркских языков, подвергшихся сильной монголизации. Польский тюрколог Стефан Калужинский, изучая монгольские элементы в якутском, пришел к выводу, что монголизмы в якутском либо принадлежат какому-то неизвестному монгольскому языку, либо заимствованы в разное время из разных монгольских языков [Kaluzynski, 1961]. В. М. Наделяев, занимавшийся в течение ряда лет дешифровкой киданьской письменности [Наделяев, Стариков, 1964] и изучавший особенности языка киданей – монгольских племен, занимавших в IV–XII вв. территории северо-восточного Китая и Монголии, – выдвинул гипотезу о киданьской монголизации якутского языка: якутская народность складывалась на Средней Лене на базе этнического слияния древних тюрок (курыкан) с монголами (киданями) в XI–XII вв. [Наделяев, 1981. С. 15; 1986а. С. 14]. Современные же консонантные системы якутского и долганского языков структурируются по признаку работы голосовых связок [Дьячковский, 1977; Бельтюкова, 2004]. Такой структурно-таксономический тип следует рассматривать как инновационный, сформировавшийся в процессе длительного исторического взаимодействия северных тюрок с тунгусо-маньчжурскими этносами и усиленный позднее влиянием русской фонологической системы.
Констатируемые в языках алтае-саянского нагорья системы согласных, базирующиеся на трихотомическом противопоставлении по квантитативности (краткий / долгий / долготнонеопределенный), являются результатом преобразования пратюркской системы с тройной оппозицией по напряженности на субстратах угро-самодийского типа. Система согласных, организованная оппозицией по длительности и впервые выявленная на материале алтайского языка [Чумакаева, 1978], была позднее зафиксирована в бачатско-телеутском, кумандинском, чалканском, тубинском, теленгитском, сагайско-хакасском языках.
Квантитативно ориентированная система сложилась в процессе ассимиляции тюрками, пришедшими в Алтае-Саянский регион, автохтонного населения угро-самодийского типа. На субстратную систему с двойной оппозицией слабых и сверхслабых фонологических единиц наложилась тюркская суперстратная система, базирующаяся на трихотомическом противопоставлении по напряженности артикуляции: сильные / слабые / сверхслабые консонанты. Неприемлемая для артикуляционно-акустической базы языка-основы сильная артикуляция реализовалась его носителями как долгая.
Аналогичные перестроечные процессы фиксируются в настоящее время в ряде южносибирских тюркских языков (сагайско-хакасском, калмакском): оппозиция по длительности или напряженности вытесняется в этих языках противопоставлением по глухости / звонкости – как по причинам имманентного характера, так и под влиянием русского языка; в северных тюркских, как уже отмечалось, и под влиянием тунгусо-маньчжурского окружения.
В шорском и в барабинско-татарском языках пратюркская тройная оппозиция согласных по степени напряженности речевого аппарата трансформировалась в противопоставление по наличию / отсутствию глоттализованности; напряженность же сохранилась в качестве второстепенного, сопутствующего признака единиц. Выявленная в шорском языке система согласных, основанная на оппозиции по положению гортани, может быть квалифицирована как наследие кетского субстрата [Уртегешев, 2002. С. 276], либо как отражение палеосибирского состояния. В барабинско-татарском языке данное противопоставление реализуется в виде фонологической оппозиции по нефарингализованности / фарингализованности [Рыжикова, 2005. С. 180].
Заключение
Инструментальные данные свидетельствуют о том, что «тюрко-монгольская языковая общность неоднородна по своему составу и структуре» [Рассадин, 2011. С. 6], выявленные общие и специфические черты в консонантизме монгольских и тюркских языков, а также других языков сибирского региона, являются результатом длительных и разновременных контактов этносов и их языков в различные периоды исторического развития и в различных ареалах их распространения. Очевидная материальная и структурно-типологическая близость консонантных систем в языках алтайской общности есть результат конвергенции, а не расхождения от общего корня.
Констатируя принципиальные различия в алгоритмах реализации древнетюркской фонологической системы в южносибирских тюркских языках, относящихся к различным ветвям циркумбайкальского языкового союза, в качестве одного из объяснений можно предположить более сильную кыпчакизацию языков алтае-саянской ветви (вокальные фонологические системы не имеют фарингализованных единиц, в северной подгруппе ветви реализуется «перелом» гласных и фонологизация позиционной длительности, консонантизм структурируется оппозицией по квантитету) и более сильную монголизацию идиомов байкало-саянской группы (вокализм включает противопоставление по фарингализованности / нефарингализованно-сти, для консонантизма релевантна тройная оппозиция по степени напряженности).
Различная типологическая отнесенность консонантных систем монгольских языков, сходство структурной организации систем согласных фонем калмыцкого и халха-монгольского языков с тюркскими системами Байкало-Саянского региона и близость хори-бурятского консонантизма с тюркскими идиомами алтае-саянского ареала базируется на причинах субстратного и адстратного контактирования.
Фонетические преобразования ареального характера не совпадают с границами языков и даже языковых семей, инновации распространяются за пределы идиомов, различия между генетически родственными языками могут оказаться значительнее, чем между языками различного происхождения, входящими в один языковой союз.
Дальнейшие научные разработки проблем структурно-таксономической организации вокальных фонико-фонологических систем в языках тюрко-монгольского мира, изучение общности и специфики фонотактических закономерностей, особенностей реализации сингармонизма в тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, а также угро-самодийских языках будут способствовать решению дискуссионных проблем определения истоков и характера алтайской языковой общности.
Received
30.06.2020
Список литературы Фонетические аспекты тюрко-монгольских языковых контактов
- Байтасов Р. Р. Родство алтайских, палеоазиатских и уральских языков. Saarbrücken: Lambert Academic Publ., 2013. 153 с.
- Бельтюкова Н. П. Консонантизм долганского языка (экспериментальное исследование). Томск: Том. гос. ун-т, 2004. 160 с.
- Биткеев П. Ц. Согласные фонемы калмыцкого языка (на материале экспериментальных исследований). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1965. 68 с.
- Будаев Ц. Б. Бурятские диалекты. Опыт диахронического исследования. Новосибирск: Наука, 1992. 217 с.
- Бураев И. Д. Становление звукового строя бурятского языка. Новосибирск: Наука, 1987. 185 с.
- Дамбыра И. Д. Вокализм каа-хемского говора в сопоставлении с другими говорами и диалектами тувинского языка. Новосибирск: ИД «Сова», 2005. 224 с.
- Дыбо А. В. Лингвистические контакты ранних тюрков. Лексический фонд. Пратюркский период. М.: Вост. лит., 2007. 223 с.
- Дьячковский Н. Д. Звуковой строй якутского языка. Якутск: Якут. кн. изд-во, 1977. Ч. 2: Консонантизм. 255 с.
- Кечил-оол С. В. Типологическая специфика консонантизма сут-хольского говора в системе говоров и диалектов тувинского языка. Новосибирск: ИД «Сова», 2006. 362 с.
- Кормушин И. В. Алтайские языки // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 28.
- Кормушин И. В. Тобаская группа // Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М.: Наука, 2002. С. 600–660.
- Котвич В. Л. Исследование по алтайским языкам / Пер. с пол. М.: Иностр. лит., 1962. 371 с.
- Кузьменков Е. А. Фонологическая система современного монгольского языка. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 212 с.
- Кызласов И. Л. Алтаистика и археология. М.: Ин-т тюркологии, 2011. 256 с.
- Мудрак О. А. Эскимосский этимологикон. М.: НВИ-Тезаурус, 2011. 1324 с.
- Наделяев В. М. Особенности звуковой системы языка тофов // Этногенез народов Северной Азии: Материалы конференции. Новосибирск, 1969. С. 235–236.
- Наделяев В. М. Артикуляционная классификация гласных // Фонетические исследования по сибирским языкам. Новосибирск, 1980. С. 3–91.
- Наделяев В. М. Теоретическое и практическое значение фонетических исследований по языкам народов Севера // Письменность народов Сибири. История и перспективы. Новосибирск, 1981. С. 11–37.
- Наделяев В. М. К типологии артикуляционно-акустических баз (ААБ) // Фонетические структуры в сибирских языках. Новосибирск, 1986а. С. 3–15.
- Наделяев В. М. Циркумбайкальский языковой союз // Исследования по фонетике языков и диалектов Сибири. Новосибирск: Наука, 1986б. С. 3–4.
- Наделяев В. М. У истоков тувинского языка // Исследования по тувинской филологии. Кызыл, 1986в. С. 53–63.
- Наделяев В. М., Стариков В. С. Предварительное сообщение о дешифровке киданьской письменности // Предварительное сообщение о дешифровке киданьского письма. М., 1964. С. 5–26.
- Рамстедт Г. И. Введение в алтайское языкознание. Морфология / Пер. с нем. М.: Изд-во иностр. лит., 1957. 255 с.
- Рассадин В. И. Очерки по исторической фонетике бурятского языка. М.: Наука, 1982. 199 с.
- Рассадин В. И. Очерки по истории сложения тюрко-монгольской языковой общности. 2-е изд., испр. Элиста: Изд-во Калм. гос. ун-та, 2011. Ч. 1: Тюркское влияние на лексику монгольских языков. 167 с.
- Рассадин В. И. О фонетических системах тофаларского и тувинского языков // Российская тюркология. 2012. № 1 (6). С. 7–12.
- Рассадин В. И. Тофаларский язык и его место в системе тюркских языков. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2014. 218 с.
- Рыжикова Т. Р. Консонантизм языка барабинских татар: сопоставительно-типологический аспект. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 269 с.
- Сегленмей С. Ф. Консонантизм тувинского языка. Экспериментально-фонетическое исследование. Кызыл: РИО ТывГУ, 2010. 142 с.
- Селютина И. Я. Фонико-фонологические исследования языков народов Сибири в ЛЭФИ им. В. М. Наделяева Института филологии СО РАН // Урало-алтайские исследования. 2016. № 3 (22). С. 68–79.
- Соктоева С. П. Консонантизм хоринского диалекта бурятского языка. Новосибирск: Наука, 1988. 165 с.
- СИГТЯ – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка. М.: Наука, 2006. 908 с.
- Уртегешев Н. С. Шумный консонантизм шорского языка (на материале мрасского диалекта). Новосибирск, 2002. 304 с.
- Чумакаева М. Ч. Согласные алтайского языка (на основе экспериментально-фонетических исследований). Горно-Алтайск: Горно-Алт. отд-ние Алт. кн. изд-ва, 1978. 244 с.
- Kaluzynski St. Mongolische Elemente in der Jakutischen Sprache. Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961, 171 s.
- Mudrak O. A. Kamchukchee and Eskimo Glottochoronogy and Some Altaic Etymologies Found in the Swadesh List. In: Аспекты компаративистики [Aspects of comparative studies]. Moscow, RSHU Press, 2008, iss. 3, p. 297–336.
- Robbeets M. I. Diachrony of verb morphology – Japanese and the Transeurasian languages. Berlin, Mouton de Gruyter, 2015, 550 p.
- Starostin S. А., Dybo A. V., Mudrak O. A. Etymological Dictionary of the Altaic Languages. Leiden, Brill Publishers, 2003, vol. 1–3, 2096 p.