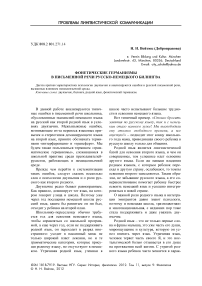Фонетические германизмы в письменной речи русско-немецкого билингва
Автор: Войтюк Нина Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Проблемы лингвистической коммуникации
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Дается краткая характеристика психологии двуязычия и анализируются ошибки в русской письменной речи, вызванные влиянием немецкоязычной среды.
Двуязычие, билингв, роднойязык, фонетический германизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14737951
IDR: 14737951 | УДК: 808.2
Текст научной статьи Фонетические германизмы в письменной речи русско-немецкого билингва
В данной работе анализируются типичные ошибки в письменной речи школьника, обусловленные экспансией немецкого языка на русский как второй родной язык в условиях двуязычия. Межъязыковые ошибки, возникающие из-за переноса языковых привычек и стереотипов доминирующего языка на второй язык, принято обозначать терминами «интерференция» и «трансферт». Мы будем также пользоваться термином «грамматические германизмы», сложившимся в школьной практике среди преподавателей-русистов, работающих в немецкоязычной среде.
Прежде чем перейти к систематизации таких ошибок, следует сказать несколько слов о психологии двуязычия и о роли русского как второго родного.
Двуязычие редко бывает равноправным. Как правило, доминирует тот язык, на котором говорит улица и школа. Поэтому уже через год посещения немецкой школы русский язык, каким бы развитым он ни был, отходит у ребенка на второй план.
Школьнику-переселенцу обычно требуется год для освоения немецкого языка, чтобы справляться со школьной программой, а еще через год, если не поддерживать родной язык, он переходит в разряд иностранного: уходит в пассивный запас не только широкий пласт лексики, но и те грамматические категории, которые присущи родному языку, но отсутствуют в немецком. Утрачивая родной язык, ученики в школе часто испытывают большие трудности в освоении немецкого языка.
Вот типичный пример. « Стоило бросить занятия по русскому языку , так и с немецким стало намного хуже! Мы высвободили ему столько свободного времени , а все впустую!» - подводит итог концу школьного года мама, приводившая своего ребенка в русскую школу только для общения.
Родной язык является лингвистической базой для освоения второго языка, и чем он совершеннее, тем успешнее идет освоение другого языка. Если же навыки владения родным языком, с которым ребенок переехал в другую страну, ослабевают, то темпы освоения второго замедляются. Таким образом, не забывание русского языка, а его совершенствование помогает ребенку быстрее освоить немецкий язык и успешно интегрироваться в новой стране.
О важной роли родного языка в интеграции эмигрантов давно знают психологи, поэтому и немецкая школа, «разноцветная» и многонациональная, с недавних пор тоже стала поддерживать и даже уважать двуязычие.
Родной язык – это не только первые слова и фразы малыша, это уже часть его души, мироощущение и культура, которую он успел впитать через язык. Утрачивая язык, человек теряет часть своего Я, и это ностальгической болью отзывается в его душе на протяжении всей жизни. С утратой родного языка ребенок часто меняется в харак-
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © Н. Н. Войтюк, 2012
тере. Нередко родители жалуются, что их дети становятся чужими, душевно далекими, порой даже агрессивными. Не так-то легко ребенку восполнить утраченный язык, круг общения и национальную сопричастность. С уходом языка ребенок чувствует себя скорее немцем, с болью утрачивая ощущение принадлежности к русскому менталитету, русской культуре. Это настоящая психологическая ломка. Так на деле убеждаешься в истинности слов, сказанных еще В. Гумбольдтом: язык отражает дух народа.
Суммируя сказанное, роль русского как второго родного языка в немецкоязычной среде можно определить как основу национальной идентификации, средство общения ребенка со старшими поколениями, как гарантию мира в его душе и мира в семье и, что немаловажно, залог его успешного трудоустройства в будущем. Глобализация экономического мира повышает спрос на билингвов - людей, владеющих двумя языками на уровне родного и знающих культуру и менталитет носителей этих языков. Именно такие знания и навыки ценятся и дают преимущество даже перед коренным немцем.
Таким образом, преподавание сводится не только к борьбе за чистоту и повышение уровня владения языком, но и за душу, мироощущение и жизненное пространство ученика. Но это все психология двуязычия.
А что происходит на уроке?
С первого класса преподаватель задается вопросом: как «отвоевать» русский язык у немецкого, чтобы ученик не только свободно говорил, грамотно писал, думал на нем, но чтобы русский язык стал для него инструментом творчества, познания и самовыражения. Это и есть в нашем понимании уровень владения родным языком.
Русский язык отличается от немецкого широкой фонологической системой, морфемным принципом правописания, преимущественно аффиксальным способом словообразования, разветвленной системой лексико-грамматических форм, категорий вида глагола, категорий одушевленности существительного, широкой системой предложно-падежных форм существительного, прилагательного, а на уровне синтаксиса -двойным отрицанием и большей свободой порядка слов в предложении.
Немецкий язык, пользуясь правом основного, активно вторгается в каждый из этих уровней, оставляя на них свои «сле ды» - германизмы. «Смывать» их трудно, но возможно, особенно если знаешь, с чем борешься и каким средством.
В дальнейшем мы ограничимся описанием фонетических германизмов в письменной речи школьников.
Фонетические германизмы
Появление типичных ошибок - фонетических германизмов - в работах русскоязычных школьников связано с обозначением на письме мягких согласных звуков.
Для русского уха немецкая речь, которая может спокойно струиться из едва разжатых зубов, сдержанна и глуховата. Зато ухо носителя немецкого языка, воспитанного на полутонах, полумягких и полутвердых согласных, очень чутко реагирует на «мягкую» мягкость русских согласных. В немецкой школе ученики-билингвы, привыкшие руководствоваться фонетическим принципом правописания, и в русской стараются во что бы то ни стало отразить эту мягкость, «орудуя» мягким знаком и забывая о двойной роли букв Е, Ё, Ю, Я, И. Перо в их руках часто выводит: Танья ( Таня ), корабльи ( корабли ), пламья ( пламя ), пьес ( пес ), к конью ( коню ), сьено ( сено ) и т. п.
В немецком языке «похожие» буквы (е, о; u, a, i) не указывают на мягкость предыдущих согласных, поэтому дети по аналогии «отказывают» в этой функции и русским буквам Е, Ё, Ю, Я, И, прибегая к помощи универсального для них, подходящего для каждого случая мягкого знака.
После буквы Ч школьники тоже с высокой регулярностью ставят мягкий знак ( ь ). Это самая частотная ошибка, которая характерна даже для средней школы, например: Почьта ( почта ), ночька ( ночка ), чьтение ( чтение ), мечьта ( мечта ) и т. п.
Постановкой мягкого знака ученик обозначает исключительную мягкость русского звука [ч], противопоставляя его полумягкому немецкому, который к тому же не имеет отдельной буквы и передается сочетанием букв tsch ( Deutschland).
Мягкий знак после Щ ставится значительно реже. Это связано, видимо, с тем, что звук, обозначаемый этой буквой, является для носителя немецкого языка мягким вариантом [ш]. Наличие в русском алфавите отдельной буквы для мягкого варианта из- бавляет ученика от потребности дополнительно обозначать его мягкость.
Непростые «отношения» складываются у школьников с мягким звуком [j] и, соответственно, с буквой Й. Немецкое ухо, привыкшее к [j] в основном в сильной позиции, часто не слышит редуцированный русский [й] - для него это просто шум, «не достойный» буквы. Примерами могут послужить слова на заударный ИЙ, где [й] настолько редуцирован, что воспринимается продолжением заударного [и]. Вот почему такие слова нередко записываются в укороченном виде: Дмитри (Дмитрий ), сини ( синий ), узки (узкий ), кали ( калий ) и т. п.
Интересно, что в других звуковых сочетаниях [j] на конце слова, как правило, фиксируется ( красный , в красной , играй ), зато не фиксируется после гласного заударный конечный [и]. Этот звук укорочен настолько, что воспринимается немецким ухом как [j]. Поэтому некоторые словоформы мн. и ед. числа существительных мужского рода на Й записываются одинаково: герой (вместо герои ), обычай (вместо обычаи ), сарай (вместо сараи ) и т. п.
Услышав [j] в полной силе, ученик по немецкой привычке обозначит его отдельной буквой, забывая по той же привычке про разделительные Ь и Ъ знаки, а также дифтонги Е, Е, Ю, Я, И. В результате мы имеем такой трансферт, как: майяк ( маяк ), пийявка ( пиявка ), пройезд ( проезд ), сйел ( съел ), прийем ( прием ), пойют ( поют ), сйемка ( съемка ), семьйя ( семья ) и т. п.
Постановка буквы Й в начале слова вместо йотированных букв встречается, как правило, только в первом классе, пока у ребенка не завершилось разделение визуального образа русского и немецкого слова. Однако мало читающие дети могут писать по принципу йогурта обычные русские слова на протяжении всего начального школьного периода, например: йолка ( ёлка ), йяма ( яма ), йюла ( юла ), йединица ( единица ) и т. п.
Фонетические германизмы встречаются также и при обозначении на письме твердых звуков, например звука [ц] в основе слова и парных звуков [з] и [с] в приставках.
Для первого случая характерны такие ошибки: Улитца (улица ), птитца ( птица ), танетц ( танец ), матратц ( матрац ) и т. п.
Немецкая Z чаще всего пишется в сопровождении буквы T: der Platz (площадь), plotzlich (вдруг), das Matzchen (шутка); das Latz (нагрудник) и т. п. Визуальный образ этого сочетания настолько ярок, что и русская буква Ц часто выписывается с немецким довеском, несмотря на то, что звука [т] в этой части слова нет.
Для второго случая присущи такие германизмы: Раслить (разлить ), изпуг ( испуг ), всболтать ( взболтать ) и т. п.
Казалось бы, приставки на З и С, пишущиеся по фонетическому принципу, такому родному для немецкого языка, не должны испытывать на себе коррекцию немецкого правописания. Но не тут-то было!
В немецком языке буква S перед согласной (глухой или звонкой) обозначает всегда глухой звук, близкий русскому [с]: Slawe [славе] (славянин), а перед гласной - звонкий, как русский [з]: Sohn [зон] (сын). По такому же принципу ученики-билингвы выписывают приставки на З и С. Перед гласной они корректно выводят З ( изыскать , разобрать ), а перед согласной билингв мучается широким выбором: пишет С, следуя немецкому принципу, а если выбирает между З и С, учитывая глухость или звонкость последующего согласного, то следует русскому принципу правописания.
Фонетические германизмы часто встречаются при отражении на письме гласных звуков. Наиболее частотные ошибки связаны с написанием букв И и Ы.
В позициях после согласного наблюдается полная идентификация звука [ы] со звуком [и], что приводит к таким ошибкам: Бил ( был ), мил ( мыл ), вил ( выл ), нирять ( нырять ), пиль ( пыль ) и т. п.
Для носителя немецкого языка [ы] - это однозначно вариант фонемы <и>, обусловленный, скорее, не позицией после твердого согласного (немецкое ухо этого не слышит), а наличием в [и] йота. Одна ученица мне прокомментировала это так: русский звук [и] мягче и длиннее немецкого [i].
Йотированность русского [и] немец слышит, если этот звук, произносится после гласного или мягкого согласного (на письме - после разделительного мягкого знака). И в данном случае не важно, в сильной или слабой позиции он реализуется - немецкое ухо везде слышит [j], который необходимо зафиксировать на письме. В этом случае мы имеем дело с такими германизмами: Во-робьй / воробйи (воробьи), муравьй / му- равйи (муравьи) в полиций (в полиции), на экскурсий (на экскурсии) и т. п.
Как же справляться с такой серией дополнительных ошибок, которые настойчиво поставляет немецкий язык?
Если германизмы, связанные с правописанием букв, обозначающих твердые звуки [з], [с], [ц], преодолеваются дополнительной выпиской слова и формированием визуального образа русского слова, то борьба с ошибками, связанными с обозначением на письме мягких согласных, требует особого теоретического и методического подхода.
Опыт показал, что в условиях двуязычия борьба за чистую русскую речь, как устную, так и письменную, протекает успешнее, если опираться на систему гласных фонем Московской фонологической школы, которая выделяет пять фонем < и>, <э>, <а>, <о>, <у> и рассматривает [ы] как разновидности фонемы <и>. Это система позволяет:
-
• выделить и противопоставить систему русских гласных звуков немецкой фонологической системе;
-
• объяснить особенности русского алфавита: бифункциональность букв И, Я, Е, Ё, Ю; особенности отражения на письме парных мягких согласных звуков, а также непарного [j];
-
• справиться с фонетическими германизмами;
-
• отказаться от термина «исключение», неоправданно часто используемого в школьной грамматике и систематизировать другие случаи фонетического правописания в русском языке (например, переход корневого [и] в [ы] после приставок на согласную).
В заключение хочу от всего сердца поблагодарить Нину Александровну Лукьянову за жизненный и профессиональный урок, который она преподала мне в годы аспирантуры. Этот опыт все двадцать лет моей работы в Германии помогает и выручает в самых сложных ситуациях. Здоровья и долгих лет жизни, дорогой наш учитель!
Материал поступил в редколлегию 09.02.2012
PHONETIC GERMANISM IN WRITING RUSSIAN-GERMAN BILINGUAL