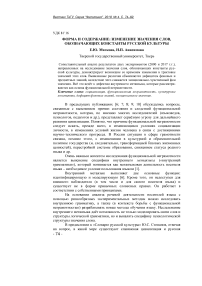Форма и содержание: изменение значения слов, обозначающих константы русской культуры
Автор: Мягкова Елена Юрьевна, Анисимова Наталия Петровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
Сопоставительный анализ результатов двух экспериментов (2000 и 2017 г.г.), направленных на исследование значения слов, обозначающих константы русской культуры, демонстрирует возникшие со временем изменения в трактовке значений этих слов. Выявленные различия объясняются дефицитом фоновых и предметных знаний, вследствие чего снижается эмоционально-чувственный фон значения. Всё это ведёт к дефектам внутреннего метаязыка, которые рассматриваются как основа функциональной неграмотности.
Социализация, функциональная неграмотность, культурные константы, дефицит фоновых знаний, эмоциональное значение
Короткий адрес: https://sciup.org/146281330
IDR: 146281330 | УДК: 81’16
Текст научной статьи Форма и содержание: изменение значения слов, обозначающих константы русской культуры
В предыдущих публикациях [6; 7; 8; 9; 10] обсуждались вопросы, связанные с выяснением причин состояния и следствий функциональной неграмотности, которая, по мнению многих исследователей (языковедов, психологов, педагогов и др.), представляет серьёзную угрозу для дальнейшего развития цивилизации. Понятно, что причины функциональной неграмотности следует искать, прежде всего, в изменяющихся условиях социализации личности, в изменениях условий жизни человека в связи с достижениями научно-технического прогресса. В России ситуация в сфере грамотности связана, помимо этого, с изменениями в культурной и образовательной политике государства (и, следовательно, трансформацией базовых жизненных ценностей), перестройкой системы образования, снижением статуса родного языка и др.
Очень важным аспектом исследования функциональной неграмотности является выяснение специфики внутреннего метаязыка («внутренней грамматики»), который понимается как метаязыковая деятельность носителя языка – необходимое условие пользования языком [1].
Внутренний метаязык выполняет две основные функции: идентифицирующую и моделирующую [6]. Кроме того, он недоступен для внешнего наблюдателя (в том числе и для самого носителя языка) и существует не в форме привычных словесных правил. Он работает в соответствии с собственными принципами.
На основании анализа речевой деятельности носителей языка с помощью разнообразных экспериментальных методик можно исследовать внутреннюю грамматику, а также (в контексте борьбы с функциональной неграмотностью) разрабатывать новые методы обучения языку. Исследование внутреннего метаязыка даёт возможность не только моделировать связи слов и структуры логической грамматики, но и выявлять специфику психологической структуры значения слова.
В предисловии к «Словарю русской культуры» Ю.С. Степанов, отвечая на вопрос, в какой мере существуют славянская цивилизация и русская - 74 - культура, писал: «…русская культура реально существует в той мере, в какой существуют значения русских (и древнерусских) слов, означающих культурные концепты» [11: 9-10]. По поводу реальности существования значения слов, означивающих исследуемые концепты в сознании носителей языка, автор указывал, что «… в Словаре речь идёт о концептах, представляющих собой в некотором роде “коллективное бессознательное” современного российского общества… Словарь рассматривает не понятия, существующие в головах … людей, а концепты, существующие в русской культуре» [там же].
В связи с этим возникает вопрос: в какой мере современные носители языка знакомы со словами, обозначающими выделенные Ю.С. Степановым концепты русской культуры, и каковы их представления о тех явлениях, которые этими словами именуются?
В работах [4; 5] описан проведённый в 2000 г. эксперимент, материалом которого послужили слова, являющиеся заголовками статей (именами концептов) в «Словаре русской культуры» [11]: к ультура, вечность, сущность, мир, хлеб, действие, слово, вера, любовь, радость, воля, правда, истина, знание, закон, наука, русские, россияне, цивилизация, душа, мещанство, интеллигенция, диссиденты, совесть, мораль, деньги, бизнес, страх, тоска, дом, грех.
Исходным предположением при проведении эксперимента было то, что «рядовые» носители языка обладают «интуитивными» знаниями о явлениях, обозначенных словами подобного рода, причём эти знания в основном определяются эмоционально-чувственными характеристиками.
Испытуемым предлагалось выполнить три задания:
-
1) опознать слова как знакомые или незнакомые;
-
2) дать дефиниции слов списка («Что это такое?»);
-
3) оценить слова экспериментального списка по шкалам (набор шкал был позаимствован из более раннего исследования эмоциональной нагрузки слова) [3].
В эксперименте принимали участие студенты первого курса неязыковых факультетов вузов (обсуждение результатов даётся на основании анализа 20 экспериментальных бланков).
Та же методика и тот же список слов использовались в 2017 году в ходе разведывательного эксперимента, целью которого было выявить, насколько и как изменились за прошедшие годы представления носителей языка о называемых данными словами явлениях. В этом случае не ставилась отдельная задача исследования эмоционального значения, поэтому испытуемым предлагались только два первых задания.
В эксперименте принимали участие студенты первого курса неязыковых факультетов вузов (обсуждение результатов даётся на основании анализа 10 экспериментальных бланков).
Приведённый ниже сопоставительный анализ результатов двух экспериментов рассматривается как первый (подготовительный) этап исследования, направленного на выявление специфики функциональной неграмотности современных носителей языка, а также поиск путей преодоления связанных с функциональной неграмотностью трудностей пользования языком. Подробное описание результатов эксперимента, проведённого в 2000 году, приводится в [5].
Итак, и в первом, и во втором эксперименте большинство испытуемых (дале - Ии.) опознали все слова списка как знакомые. Незнакомыми для многих из них оказались слова диссиденты (35% отказов в первом и 75% отказов во втором эксперименте) и мещанство (25% и 70% отказов, соответственно).
Как видим, общее число Ии., отметивших данные слова как незнакомые, значительно возросло. Кроме этих слов во втором эксперименте по одному разу были отмечены как незнакомые слова мораль , интеллигенция и цивилизация.
При выполнении второго задания и в первом, и во втором эксперименте в ряде случаев имел место отказ от дефиниции. В число слов, которые не были описаны, в первом эксперименте попали слова действие , слово, истина, наука, цивилизация, мещанство, мораль, вера (среди этих слов только мещанство было в первом задании отмечено как незнакомое).
Во втором эксперименте отказ от дефиниции был зафиксирован для слов культура, слово, вера, наука, правда, истина, наука, цивилизация, мещанство, интеллигенция, диссиденты, мораль, грех . Здесь также имели место случаи, когда в первом задании слово было помечено как знакомое, но не получило дефиниции во втором задании.
Рассмотрим результаты выполнения второго задания эксперимента; они оказались интересными во многих отношениях.
Во-первых, в обоих экспериментах многие из тех, кто опознал почти все слова списка как знакомые, при выполнении этого задания показали, что их представление о том, что означает данное слово, значительно отличается от общепринятого. Примеры дефиниций приводятся в таблице, здесь и далее во всех примерах сохранена орфография и пунктуация оригинала экспериментального бланка.
Таблица. Примеры дефиниций слов экспериментального списка
|
Слово |
Дефиниция |
|
|
Эксперимент 1 |
Эксперимент 2 |
|
|
диссиденты |
захватчики (2); плохие люди, ВРАГИ!; не умеющие вести честную, благородную борьбу захватчики; люди; борец против существующего строя, признанный властями |
люди, взгляды которых расходятся с общепринятыми |
|
мораль |
правила поведения в обществе |
выслушивать наставления другого человека; нормы поведения и общения в обществе; нормы поведения, |
|
интеллигенция |
в данное время слои общества, обделённые деньгами; очень хорошие, воспитанные люди, к которым я, к сожалению, не принадлежу; студенты и те, кто |
воспитанное общество; люди высокие своей нравственностью; люди с правильным поведением из высшего общества; воспитание, уровень жизни; высший слой |
|
из них вырос; я и мои друзья-педагоги; люди, которые хотят отделить себя от неинтеллигентов, хотя среди них немало умных людей, предпочитают умственный труд; люди, желающие показаться высокоразвитыми |
общества, отличающийся статусом, манерами, материальным положением; воспитанность |
|
|
воля |
предоставление полной свободы действий, обычно ограниченное рамками закона |
свобода (5), неограниченность; возможность поступать, как хочется |
|
мещанство |
стремление жить только для себя, не интересуясь более ничем |
зажиточность, богатство; |
В первом эксперименте некоторые Ии. заканчивали свои дефиниции словами «только я не уверен», «а может быть, и нет» и т.п. Во втором эксперименте подобные комментарии отсутствовали.
Во-вторых, в первом эксперименте при ответе на вопрос второго задания («Напишите, как вы понимаете это слово») многие Ии. старались сформулировать своё определение так, чтобы оно выглядело «научным», «правильным», и поэтому стремились к максимально беспристрастной дефиниции:
хлеб - продукт из зерновых культур, употребляется для еды; изделие из муки и воды; пищевой продукт на основе муки;
радость - процесс преобладания положительных эмоций, обычно сопровождается сокращением лицевых мускулов (улыбкой), если радость большая, то может сопровождаться выделением влаги из слёзных желез; чувство, ощущение, вызванное преобладанием положительных эмоций; разновидность поведения человека и животных;
любовь - процесс взаимоотношений между людьми;
слово - совокупность символов, несущих в себе определённый смысл;
душа - субъективное понятие, включающее в себя истинную сущность каждого человека.
В процессе обсуждения эксперимента после выполнения заданий практически все Ии. указали на то, что сами слова списка показались им «заумными», «научными» и т.п. и поэтому они сочли необходимым написать «как в учебнике». Нужно отметить, что при проведении экспериментов в группах студентов после выполнения ими заданий возникает «стихийная» дискуссия по поводу того, что и зачем они только что делали, и почему они сделали это так, а не иначе. Иногда такие обсуждения могут дать очень интересный материал для размышлений и даже помогают разрабатывать новые методики и приёмы исследования.
Во втором эксперименте эта тенденция сохранилась, но главным здесь было то, что Ии. очень боялись «написать неправильно», сделать ошибку (несмотря на то, что в ходе инструктажа перед проведением эксперимента специально оговаривалось, что это - не учебное задание, что эксперимент проводится анонимно, главное - выразить своё субъективное представление о том, что означает слово). Здесь сильно выраженной оказалась свойственная современным выпускникам школы тенденция ориентации на оценку, а также привычка давать формально правильные ответы на вопросы:
хлеб - изделие из зерна, пшеницы; изделие мучное; хлебобулочное мучное изделие; продукт питания; мучное изделие, употребляемое в пищу;
радость - эмоции человека; состояние человека; эмоция; улыбка на лице за кого либо; чувство; хорошие эмоции;
любовь - чувство свойственное человеку или жив.; чувство человека относительно кого или чего-либо; чувство по отношению к кому-либо или чему-либо; чувства между двумя людьми, привязанность;
слово - структура языка; набор букв, несущих определённую смысловую нагрузку; то из чего состоит вся наша речь; способ выражения своих мыслей; способ общения;
душа - что внутри чел. и остаётся после смерти; внутренний мир человека, его мысли, переживания, способности; то, что живёт в каждом человеке .
В материалах этого задания эксперимента в обоих случаях прослеживается ещё одна тенденция - передать значение слова с помощью описания образа, ситуации и т.п. В таких случаях, как правило, наличие эмоционально-чувственного содержания этого образа не вызывает сомнения, поскольку, кроме отчётливо выраженного положительного или отрицательного отношения автора толкования к описываемому им явлению, в нем явно ощущается связь с миром эмоций (а иногда эти эмоции и оценки прямо названы в дефиниции),
Эксперимент 1:
мир - это когда нет войны и все хорошо; жить без страха и с надеждой на будущее; любовь - это такое чувство, которое всем бы хотелось испытать, но, увы, оно встречается крайне редко; чувство, которое может возвысить человека до небес и бросить в бездну;
радость - смех, улыбки, беззаботность;
русские - люди, не только проживающие в России, но ещё и любящие свою Родину и своих сограждан; самая великая нация на свете;
россияне - обращение Б.Н. Ельцина к народу;
душа - если верить церкви, то это то, что попадает в рай, или в ад, после того как человек умирает; бессмертная часть человека; то, что находится в человеке, где-то в районе сердца;
совесть - это такой маленький человечек, который живёт в каждом из нас и пытается не позволить нам делать плохие поступки; субъективное понятие, мешающее людям делать то, что хочется, хотя иногда и правильно мешает; компас внутри человека ;
деньги - жалкие бумажки, рабами которых многие из нас являются; какие-либо символы взаиморасчётов людей, потому что бартером не удобно; для умных - это средство, для глупых - это цель;
грех - самое страшное преступление в жизни; то, что делать нельзя, но все делают; все мы грешны;
истина - то, что незыблемо и не ставится под сомнение; то, что все ищут и не могут найти;
дом - то, где тебя ждут; место, где кто-либо проводит большинство ночей; в нём всегда хорошо и уютно, если он твой; место, где я спокоен ;
вечность - где-то далеко есть большая гора, состоящая из чистого алмаза. Раз в тысячелетие на вершину горы прилетает орёл, чтобы почистить свой клюв об эту гору. Так вот, когда сотрется последняя крупинка этой горы - пройдет одна секунда вечности.
Эксперимент 2:
мир - спокойствие на земле; гармония, спокойствие;
любовь - комфорт; семья; чувствовать человека, помогать во всём, отдавать себя полностью;
радость - уют; ощущение счастья; состояние эйфории, лёгкость;
душа - что-то широкое и, не имеющее граней; чаша наполненная чувствами; совесть - внутренние терзания, упрёки (к самому себе);
деньги - то, что делает людей счастливыми!;
дом - уют, где есть родные; место, где тебя все ждут; место, где люди отдыхают с семьёй; семья; там, где тебя ждут, семья;
вечность - навсегда.
Как видно из примеров, в материалах второго эксперимента эмоционально-чувственная наполненность образов проявляется значительно слабее, меньше и количество слов, дефиниции которых отсылают к какому-либо образу и/или ситуации. В некоторых случаях изменился вектор отношения к называемому словом явлению.
Например, слова русские , россияне с изменением политической обстановки в России также изменили своё значение, в первую очередь, его эмоционально-чувственную наполненность. Если в 2000 году русские - это «люди, не только проживающие в России, но ещё и любящие свою Родину и своих сограждан; самая великая нация на свете», а россияне - «обращение Б.Н. Ельцина к народу», то в 2017 году русские - это «национальность; люди, родившиеся в России, оба родителя тоже русские; нация» и лишь один раз встречается дефиниция «люди, стоящие за Россию»; россияне - «жители России; люди, которые живут в России» и лишь один раз встречается дефиниция «великая нация народа».
В плане эмоционально-чувственной наполненности можно отметить снижение интенсивности отношения к называемому словом явлению, ср.: вечность - (эксперимент 1) «навсегда»; (эксперимент 2) «бесконечное время, продолжительность времени»; грех - (эксперимент 1) «самое страшное преступление в жизни; то, что делать нельзя, но все делают; все мы грешны»; (эксперимент 2) «деяние, совершённое против устоявшихся законов, норм, правил; проступок, ошибка; совершённое действие запрещённое Библией».
Любопытно, что слово деньги , которое имеет особенное значение для жителей современной России, изменило своё эмоционально-чувственное значение с резко отрицательного на нейтральное. Оно не отмечено интенсивным эмоционально-чувственным накалом: в первом эксперименте это были «жалкие бумажки, рабами которых многие из нас являются» и подобные характеристики, а во втором эксперименте лишь один раз появилась дефиниция с явным положительным отношением (подчёркнутым восклицательным знаком): «то, что делает людей счастливыми!».
Остальные дефиниции преимущественно нейтральны: «бумажка на которую можно купить; общее название билетов банков разных стран; ценные бумаги, на которые приобретают все различные блага; то что мы тратим для более удобной жизни; ценные бумаги, точнее бумага имеющая ценность в золоте; средства платежа, обмена; способ оплаты чего-либо».
Следует отметить и то, что во втором эксперименте предложенные ии. дефиниции стали значительно короче, выросло количество орфографических и особенно пунктуационных ошибок. Кроме того, современные студенты в целом не готовы к работе со словами.
Прежде всего (и это обнаруживается практически на каждом занятии по иностранному языку), они не очень хорошо представляют себе, что такое значение слова (прежде всего, слова родного языка).
Большие затруднения вызывают просьбы объяснить, что значит то или иное слово, в каких ситуациях оно используется; практически невыполнимым оказывается задание привести примеры использования слова (на русском языке). Как представляется, причиной такого положения дел может быть неумение работать творчески и самостоятельно, а также боязнь получения плохой оценки (результат ориентации на формальные показатели качества знаний в школьном обучении, что привело к формированию привычки зазубривать готовые тексты без глубокого осмысливания их содержания).
Ранее [8] уже была высказана мысль о том, что эти затруднения в работе с разного рода текстами (в широком смысле слова текст ) вызваны недостаточной сформированностью внутреннего метаязыка, что неизбежно ведёт к отсутствию навыков моделирования языковых явлений и, вследствие этого, бедности эмоционально-чувственного фона (который возникает на основе чувственного опыта в предметной деятельности субъекта). Это связано с тем, что «метаязыковая деятельность носителя языка, имеющая (как и вся мыслительная деятельность) корни в “чувствовании”, неизбежно окрашивается разными оттенками чувственных модальностей, “наводящих” на смыслы. Возможно, именно поэтому те виды речевой деятельности, которые связаны с моделирующей функцией внутреннего метаязыка (например, попытки создать или понять тексты типа глокой куздры или Jabberwocky ), настолько эмоционально окрашены» [7: 56–57]. Очень хорошо об этом сказала Алиса:
«Очень милые стишки... но понять их не так-то легко. Наводят на всякие мысли – хоть я и не знаю, на какие… Одно ясно: кто-то кого-то здесь убил… А впрочем, может и нет…» [2: 129; курсив автора].
Это подтверждается и в обсуждении глокой куздры со студентами и аспирантами: в норме идентифицируются не только «отношения между объектами», но и предположительные качества этих объектов, формирующие определённое к ним отношение.
Логика мышления – это не всегда чёткая логика высказывания, отображённая грамматическим правилом, но и нечто иное, не поддающееся однозначному более или менее простому описанию. В процессе овладения языком человек на метаязыковом уровне формирует внутренние опоры, позволяющие ему идентифицировать языковые единицы и выстраивать отношения между ними.
Таким образом, получается, что сосредоточенность на формальных показателях качества знаний приводит к формированию «дефектной» внутренней грамматики, не позволяющей носителю языка свободно оперировать языковыми формами (кстати, разграничение формы и содержания – ещё одна весьма значительная проблема для современных студентов). Такая «дефектная» система внутренних опор мешает формированию переносимых навыков, что оказывается одной из причин функциональной неграмотности.
Ещё одним фактором, создающим проблемы в пользовании языком, становится дефицит фоновых знаний: выпускники современной школы имеют весьма смутные представления о мире, в котором живут, поскольку у них отсутствуют элементарные знания по целому ряду школьных предметов (в первую очередь, математике, истории, географии – см. об этом: [10]).
Поэтому можно утверждать, что первостепенная задача современного исследователя-языковеда (и не только) должна состоять в поиске возможных путей преодоления указанных проблем. По-видимому, это потребует, с одной стороны, разработки методов и способов диагностики функциональной неграмотности, а с другой стороны, поиска путей её преодоления.
Список литературы Форма и содержание: изменение значения слов, обозначающих константы русской культуры
- Золотова Н.О. Ядро ментального лексикона человека как естественный метаязык: Монография. Тверь: Лилия Принт, 2005. 204 с.
- Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в зазеркалье/Под ред. Н.М. Демуровой. М.: Наука, 1978. 359 с.
- Мягкова Е.Ю. Эмоциональная нагрузка слова: опыт психолингвистического исследования: монография. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1990. 110 с.
- Мягкова Е.Ю. Эмоционально-чувственный компонент психологической структуры значения слова: монография. Курск: Изд-во КГУ, 2000. 112 с.
- Мягкова Е.Ю. Экспериментальное исследование «Констант русской культуры»//Слово и текст в психолингвистическом аспекте: Сборник научных трудов. Тверь: Изд-во ТвГУ, 2000. С.56-63.
- Мягкова Е.Ю. Язык -логика -грамматика: к проблеме моделирования метаязыка//Методология современного языкознания: Сборник статей/Отв. ред. А.Г. Сонин, А.С. Баранов. М.: АСОУ, 2010. С. 141-150.
- Мягкова Е.Ю. Ещё раз к вопросу о грамматике говорящего//Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 4. С. 53-59.
- Мягкова Е.Ю. Моделирование внутреннего метаязыка как средство диагностики функциональной неграмотности//Слово и текст: психолингвистический подход: сб. науч. тр./под общ. ред. А.А. Залевской. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2015. С. 44-51.
- Мягкова Е.Ю. Проблемы социализации: существует ли угроза цифрового слабоумия?//Язык, сознание, коммуникация: сборник статей/Отв. ред. серии В.В. Красных, А.И. Изотов. Москва: МАКС Пресс, 2017. (Вып. 57). С.199-210.
- Мягкова Е.Ю. Где живёт бурый белый медвежонок, или чтение и проблемы понимания текста//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. № 4, 2017. С. 145-151.
- Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с.