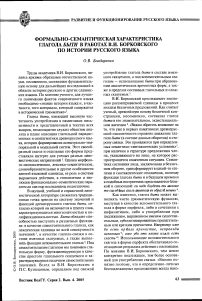Формально-семантическая характеристика глагола быти в работах В. И. Борковского по истории русского языка
Автор: Бондаренко О.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 4, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14969168
IDR: 14969168
Текст статьи Формально-семантическая характеристика глагола быти в работах В. И. Борковского по истории русского языка
Труды академика В.И. Борковского, являясь яркими образцами отечественной науки, несомненно, составляют фундаментальную основу для дальнейших исследований в области истории русского и других славянских языков. По мнению ученого, для лучшего понимания фактов современного языка необходимо «знание истории языка и, в частности, того материала, который содержится в исторической грамматике»1.
Глагол быти, имеющий высокую частотность употребления в памятниках письменности и представленный в текстах всех жанров, неоднократно служил объектом анализа в плане описания глагольной парадигматики и синтагматики древнерусского языка, истории формирования аспектуально-темпоральной и модальной систем. Этот своеобразный глагол и отдельные его формы представляли интерес для ученых разных лингвистических направлений2. Однако морфолого-синтаксические , лексико-семантические, словообразовательные и другие особенности данной языковой единицы, ее роль в системе выражения действия, в становлении и эволюции функционально-семантических парадигм до сих пор исследованы недостаточно.
В научной, учебной и справочной лингвистической литературе сложилась традиционная точка зрения на систему значений и функций древнерусского глагола быти, согласно которой он включается в группу слов, характеризующихся многозначностью и полифункциональностью. Быти обладает способностью выступать в различных функциях: в качестве самостоятельного глагола, как лексическая единица во всей совокупности значений3, в качестве глагола-связки в составе именных сказуемых, а также выполнять функции вспомогательного глагола4. Под самостоятельным глаголом мы понимаем глагольную форму, функционирующую в качестве простого глагольного сказуемого и характеризующуюся наличием самостоятельных значений. Вслед за В.И. Борковским и П.С. Кузнецовым, определяем под связкой употребление глагола быти в составе именного сказуемого, а под вспомогательным глаголом — использование быти при образовании аналитических временных форм, а также в пределах составных глагольных и сложных сказуемых5.
В.И. Борковский прослеживает эволюцию рассматриваемой единицы в процессе анализа безличных предложений. Как считает ученый, древнейшую основу безличной конструкции, несомненно, составлял глагол быти в его знаменательном, экзистенциальном значении6. «Важно обратить внимание на то, что уже в первых памятниках древнерусской письменности отражено движение глагола быти (в составе данных оборотов) в сторону связки. Это проявляется при определенных семантико-синтаксических условиях»7, при наличии в структуре предложения члена, указывающего на лицо, на которое распространяется означенная ситуация. Семантика состояния лица, заключенная в безличном обороте, трансформирует в какой-то степени и синтаксические отношения, поэтому функция глагола быти и в будущем времени в подобных построениях представляется близкой к связочной: ей чадо боудеть ти ткоже ти ст об±ща англъ твивъст въ образ^ мокмъ8.
Как известно, глагол быти может выполнять чисто грамматическую функцию, выступая в качестве вспомогательного глагола в форме перфекта, либо в сочетании с инфинитивом, либо в употреблении при подлежащем, выраженном именем существительным, субстантивированным прилагательным или кратким причастием. Например: иже бо есть пр^ялъ причастие, неправьды исплъньнъ9; иже убо отъ плъти издлъ есть сласть10. Использование вспомогательного глагола в форме перфекта обеспечивало соотношение результата действия с настоящим. По мнению В.И. Борковского, чем менее конкретно подлежащее, тем более оснований для употребления связки. «Вполне понятно поэтому, что в определенно-личных бесподлежащных предложениях всегда нахо- дим связку». Ученый считает, что «исследуя вопрос о предикативном падеже (именительном и творительном), о форме прилагательного (именной или местоименной), следует выяснить степень знаменательности глагола, входящего в составное сказуемое»11.
Анализ контекстов, где быти употребляется в сочетаниях с инфинитивом как составная часть глагольного сказуемого, позволяет говорить о том, что эти конструкции приобретают значение долженствования или возможности: когожьдо дело яко же есть ог-нье искусити 12 = ‘каждое дело должен искусить огонь’; и бк видкти чюдо преславьно яко Ависд ис 13 = ‘можно видеть преславное чудо, как явился Иисус’; бк видкти сверкпоую оноу силу огньноу погашьшоу 14 = ‘можно видеть свирепую ту огненную силу, погасшей’.
Анализируя составное сказуемое В.И. Борковский, указывал, что надо «учитывать не только то, какая часть речи является предикативным именем, но, в случаях со связкой — вспомогательным глаголом в форме настоящего времени (или без этой связки)», следует также принимать во внимание, «какой частью речи выражено подлежащее». По наблюдениям ученого, «в древнерусском языке нормой являлось составное сказуемое без связки ксть и соутъ, а употребление 1-го и 2-го лица вспомогательного глагола диктовалось необходимостью указать на лицо 15.
Имя прилагательное в составе сказуемого в древнерусских памятниках последовательно употребляется в именной форме и стоит в именительном падеже. Употреблению творительного падежа прилагательных, по мнению ряда ученых, способствовал рост случаев с творительным предикативным имен существительных. Преобладание творительного предикативного над именительным предикативным характерно для деловых памятников16. При имени прилагательном в составном сказуемом употреблялся вспомогательный глагол-связка, указывающий налицо -1-е или 2-е. В 3-м лице связка (есть, соутъ), как правило, не употребляется.
В случаях, когда в составное сказуемое входит местоимение, глагол-связка в форме настоящего времени 3-го лица тоже отсутствует. В.И. Борковский приводит некоторые примеры, в частности из Полоцкой грамоты, где быти сохраняет свое конкретное значение бытия, существования и является знаменательной связкой. В так называемых знаменательных связках академик Л. В. Щерба справедливо заметил, что «мы наблюдаем контамина цию двух функций — связки и большей или меньшей глагольности (наподобие контаминации двух функций у причастия)»17.
Глагол быти может иметь функционально-модальное значение. Например: в ныняшъ-нее немниться радости быти 18; ба ткши въ дклкхъ добрыихъ добро датьникомъ быти обьштьникомъ быти богапгАштемъ добромъ въ будуштее 19. В данных контекстах между словоформами в словосочетаниях «радости быти, добро датьникомъ быти, обьштьникомъ быти», по нашему предположению, пропущено какое-то модальное слово (например: добро дать-ником должен быти), и модальное значение переносится на инфинитив или же быти в данных контекстах имеет значение долженствования, побуждения к совершению действия: радость пусть будет и датьником будь.
В своих работах по истории русского языка В.И. Борковский для характеристики языковых фактов привлекает разные типы конструкций, которые имеют свою специфику. Для историков русского языка ценны наблюдения В.И. Борковского о том, что «синтаксическая конструкция должна изучаться не только со стороны ее формы, но и со стороны ее значения»20. Анализируемый нами глагол часто по-разному интерпретируется ученым в предложениях разного типа. Остановимся на конструкциях с условным значением, при функционировании которых важную роль играет формально-семантическая характеристика быти. В анализируемом материале зафиксировано употребление имперфекта от глагола быти.
Славянский имперфект в древности образовывался преимущественно от основ несовершенного вида, что, по мнению Ю.С. Маслова, является «нормальным» типом имперфекта в славянских языках21. Значение этой временной формы в славистике изучено достаточно хорошо: древнерусский имперфект обозначает «действие в прошлом, длительное и неограниченное во времени, также повторяемое в прошлом, но опять-таки без ограничения этой повторяемости»22.
Для образования такой формы от глагола быти существовала особая основа имперфекта бк (бкахъ, б каше, бкахя), от которой образовывалась также форма аориста (бкхъ, бк, бкшА) с той же грамматической функцией, из чего можно заключить, что именно основа бк- являлась носителем значения «длительности, незаконченности». В древнерусских памятниках имперфект от этой основы обычно употреблялся в так называемой «стяженной»
форме: 6ахъ, блше, 6ахж. Однако наряду с этими регулярными образованиями исследователями истории русского языка отмечается еще одна, особая форма имперфекта того же глагола, образованная от основы бмд- (боуд-), обычно использовавшейся для производства форм со значением будущего — собственно будущего времени (б^У, будешь, б^$дп) и повелительного наклонения (6sdu, б^кте)23.
В лингвистической литературе такое образование имперфекта иллюстрируется примерами из «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку. Данная форма названа «особой» и встречается чаще в форме 3-го лица единственного числа, в основном в условных конструкциях. Например, аще покхати буддше йбърину, не дадлше въпрАчи кона, ни вола...24 В контексте рассматриваемая форма употреблена в сочетании с инфинитивом, ее значение и функции могут быть истолкованы по-разному25. Возможность перевода сочетания по-кхати будлме на русский язык как «случилось поехать» передает «наиболее полно и ярко те функционально-семантические особенности, которые были свойственны формам имперфекта, производным от основ СВ (совершенного вида. — О. Б.)», «способствует передаче модально-экспрессивной окраски внезапных, немотивированных действий»26. В.И. Борковский приводил примеры, когда «глагол ксмъ — быти в форме 3-го лица единственного числа будущего или прошедшего времени в сочетании с инфинитивом входил в состав безличного предложения, обычно являющегося частью сложного предложения, в качестве его сказуемого со значением “случится (случилось)”, “приведется (привелось)”, “будет нужно (было нужно)”»27. По свидетельству В.И. Борковского, безличная конструкция с боудеть почти не встречается в памятниках церковно-книжного языка, в летописях представлена небольшим числом случаев и в то же время широко употребляется в грамотах28.
В другом фрагменте, в повествовании о святом житии старца Феодосия в пещере, форма имперфекта употреблена в соединении с существительным: аще ли будАше нужьное орудье, то акдньцемъ малымь бескдоваше 29, что можно перевести таким образом: ‘если оказывалась (случалась) необходимость, то (он) беседовал через маленькое окошко’.
Обследование старейших древнерусских текстов позволило нам обнаружить, что, вопреки мнению исследователей об уникальности словоформы будяше, она встречается еще в ряде древнерусских памятников и не обязательно в условных конструкциях. Эта словоформа девять раз употреблена в Житии Феодосия Печерского, дошедшем до нас в составе Успенского сборника (XII—XIII вв.). Например: от множества же овада и комара все т^ло его покрьвено боудАше и ядяхоу плъть его30 = ‘из-за множества слепней и комаров все тело его оказывалось в крови, и (они) изъедали тело его’. Интересующий нас глагол выступает здесь в «качестве связки в составном сказуемом, выражая предельно-результативное значение и подчеркивая тем самым завершенность, результативность действия, которое могло быть и обычным, повторяемым многократно»31.
Можно заметить, что во всех случаях — как в летописном, так и в житийном текстах — употребление боудАше связано с указанием на обычность, повторяемость ситуации (в прошлом), что «нормальному» имперфекту (от основ несовершенного вида) не свойственно. Это обстоятельство заставляет исследователей ассоциировать форму боудАше с относительно редкими случаями имперфек-тных образований от основ совершенного вида и связывать ее с первичной ингрессивной семантикой основы боуд-, которая могла также обозначать и границу во времени32. Вероятна и интерпретация формы боудАше как «способа актуализации модального значения», «возможного проявления, обнаружения действия, состояния или признака»33. Однако, по мнению В.Б. Силиной, такой подход представляется оправданным лишь в тех случаях, когда данная форма употреблена в условных конструкциях. Существование же контекстов, где форма боудАше отмечена в чисто временном значении констатации реального совершившегося действия (обычного или завершающего цепь действий), как представляется, предполагает анализ указанной формы не только в аспекте модальности, но и в соотнесении с кругом индикатива»34.
Таким образом, глагол быти, обладающий в древнерусском языке многозначностью и полифункциональностью, употреблялся в текстах всех жанров. Отмеченные В.И. Борковским особенности использования форм глагола быти в зависимости от типа памятника и тонкие наблюдения ученого, касающиеся парадигматических, синтагматических и семантико-стилистических свойств языковой единицы, дают возможность говорить о перспективе дальнейшего исследования поставленной проблемы на материале памятников письменности разных эпох.
Список литературы Формально-семантическая характеристика глагола быти в работах В. И. Борковского по истории русского языка
- Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. М., 1963. С. 3.
- Буслаев Ф.И. Историческая грамматика. М., 1959; Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М., 1958;
- Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. М., 1957;
- Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951;
- Борковский В.И. Историческая грамматика русского языка. М., 1978;
- Бондаренко О.В. Функционирование древнерусского глагола быти//Вестник ВолГУ. Сер. 2, Языкознание. Вып. 2. 2002. С. 38-41.
- Русская грамматика: В 2 т. Т. I. М., 1980. С. 593, 627, 662-663;
- Словарь русского литературного языка. Т. 1. М.; Л., 1948. С. 726-732;
- Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1975. Вып. 1. С. 366-367.
- Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение/Под ред. В.И. Борковского. М., 1978. С. 246.
- Успенский сборникXII-XIII вв. М., 1971. С. 69
- Изборник Святослава 1073 года. Факс. изд. М., 1983. Л. 77 об.
- Изборник Святослава 1073 года. Л. 56.
- Сказание о Борисе и Глебе, приписываемое мниху Якову//Успенский сборник XII-XIII вв. М., 1971. Л. 21в.
- Житие Нифонта и Федора Студита//Выголексинский сборник. М., 1977. С. 152.
- Щерба Л.В. О частях речи в русском языке. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 78.
- Изборник Святослава 1073 года. Л. 66 об.
- Борковский В.И. Использование диалектных данных в трудах по историческому синтаксису восточнославянских языков//Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961. С. 353.
- Маслов Ю.С. Очерки по аспектологии. Л., 1984. С. 111.
- Кузнецов П.С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959. С. 200-201;
- Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М., 1877. Т. 4, вып. 2. С. 182.
- Лаврентьевская летопись//Полное собрание русских летописей. Том первый. М., 1997. Л.4об.Стб. 12.
- Лопушанская С.П. Основные тенденции эволюции простых претеритов в древнерусском книжном языке. Казань, 1975. С. 216-217.
- Борковский В.И. Синтаксис древнерусских грамот: (Простое предложение). Львов, 1949. С. 66-67.
- Лаврентьевская летопись. Л. 62 об. Стб. 185.
- Житие Феодосия Печерского//Успенский сборник. Л. 36б-36в.
- Силина В.Б. Глагол//Древнерусская грамматика XII-XIII вв. М., 1995. С. 440.
- Кузнецов П.С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959. С. 201.
- Мустафина Э.К. Редкая форма имперфекта глагола быти в литературном языке Древней Руси//Исследования по глаголу в славянских языках: История славянского глагола. М., 1991. С. 59-60.