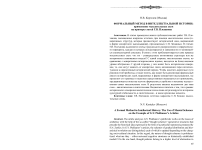Формальный метод в интеллектуальной истории: применение мыслительных схем на примере статей Г.В. Плеханова
Автор: Кортелев Никита Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ публицистических работ Г.В. Плеханова, посвященных вопросам эстетики, при помощи мыслительных схем (генеративных структур, которые предшествуют исторической идее, выраженной в форме конкретного высказывания), предложенных С.Н. Зенкиным. В статьях Г.В. Плеханова выделяются схемы градуального распределения и иерархического переворота, каждая из которых актуализируется в зависимости от меняющейся социокультурной ситуации. В связи с этим проблематизируется сама природа мыслительных схем: что это - универсальные когнитивные структуры или же исторически сложившиеся модели? С одной стороны, мыслительные схемы, по сравнению с конкретными историческими идеями, находятся на более высоком уровне абстракции. С другой стороны, у них может быть историческое измерение, т.е. они могут зависеть от конкретных задач, возникающих перед интеллектуалами в определенный исторический период. Чтобы наметить вероятные пути решения этой проблемы, а также понять, как может быть реализован формальный анализ исторических идей, выраженных в форме конкретного высказывания, где пролегают его границы и насколько продуктивным оказывается его применение, предпринимается попытка изучить формальное устройство и механику осуществления самих мыслительных схем. В результате анализа выделяются два типа схем - аналитические и синтетическая. Выдвигается гипотеза о том, что в рамках исторического измерения аналитические схемы чаще актуализируются в периоды культурной стабильности, а синтетическая - в некие кризисные моменты.
Г.в. плеханов, эстетика, марксизм, с.н. зенкин, мыслительные схемы
Короткий адрес: https://sciup.org/149139251
IDR: 149139251 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_65
Текст научной статьи Формальный метод в интеллектуальной истории: применение мыслительных схем на примере статей Г.В. Плеханова
Интенсификация процессов глокализации, поиск и выбор стратегий развития, обращенный и к традиции, и к выработке принципиального нового языка, ставят перед нами проблему создания модели, адекватно описывающей как единое целое, так и специфику частей и отношений между ними. Эта проблема, в свою очередь, требует от исследователей критического переосмысления собственного интеллектуального инструментария.
В попытках анализировать социокультурную ситуацию как целое продуктивным будет некий мета-взгляд, который позволит выявить структурные инварианты актуального интеллектуального дискурса. Один из современных исследовательских инструментов, обладающий заявленным потенциалом, - мыслительные схемы, предложенные С.Н. Зенкиным в работе «Исторические идеи и мыслительные схемы: к поэтике интеллектуального дискурса».
Мыслительная схема, по определению С.Н. Зенкина, - это промежуточное звено между «интеллектуальными категориями и сугубо случайными словесными высказываниями» [Зенкин 2012, 87]. Другими словами, мыслительные схемы - это некие генеративные структуры, которые предшествуют исторической идее, выраженной в форме конкретного высказывания. Данные структуры помогают понять социокультурную ситуацию через наиболее частотные интеллектуальные ходы, к которым прибегают авторы той или иной эпохи. Кроме того, схемы оказывают прямое влияние на репрезентацию порождаемых с их помощью идей и концептов.
Специфика актуализации той или иной мыслительной схемы рассмотрена мной на примере корпуса публицистических работ Г.В. Плеханова, которые посвящены проблемам эстетики. Выбор источников обусловлен сложностью и динамикой социокультурной ситуации, ставящей перед автором все новые интеллектуальные задачи.
В первую очередь интерес представляет схема градуального распределения. Указанная схема лежит в основе «идей инициации и прогресса, а также разнообразных методов мышления, применяющих понятия нормы, отклонения, рейтинга» [Зенкин 2012, 92]. Она порождает высказывания о качестве элементов. Разница в качестве обусловлена степенью

соответствия того или иного элемента выбранному критерию. Критерий оказывается в роли трансцендентальной категории. Именно его наличие делает возможным получение некоего опыта и знания. Предполагается, что адекватность критерия обусловлена его универсальностью для всех элементов шкалы. Сопоставляя каждый из них с выбранным критерием, можно получить важную для субъекта мышления информацию. Рискну предположить, что, возможно, С.Н. Зенкин выделил некий фундаментальный механизм выбора и оценки.
Нечто похожее мы можем обнаружить у Г.В. Плеханова: «Я же думаю, что искусство начинается тогда, когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, испытанные им под влиянием окружающей его действительности, и придает им известное образное выражение. Само собою разумеется, что в огромнейшем большинстве случаев он делает это с целью передать передуманное и перечувствованное им другим людям. Искусство есть общественное явление» [Плеханов 1923-1927, XIV, 2]. Другими словами, по мысли Г.В. Плеханова, конечная форма любого художественного произведения детерминирована системой общественных отношений, в рамках которой произведение было создано. Этим утверждением и руководствуется автор, формулируя критерии художественности. Критерии, которые использует Г.В. Плеханов, формулируется уже в «Письмах без адреса» (1899), используются на протяжении всего рассматриваемого периода и дополняются в статье «Искусство и общественная жизнь» (1912). Они включают в себя:
-
• истинность (в основе должна лежать истинная идея, то есть верифицируемая и логически непротиворечивая);
-
• образность (искусство передает мысли и чувства людей посредством образов);
-
• гармония авторского замысла и формы его воплощения (соответствие формы содержанию).
В статьях «А.Л. Волынский “Русские критики. Литературные очерки”» (1897), «Белинский и разумная действительность» (1897), «Литературные взгляды ВТ. Белинского» (1897), «Эстетическая теория Н.Г Чернышевского» (1897), «Письма без адреса» (1899), «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии» (1905), «Пролетарское движение и буржуазное искусство (Шестая международная художественная выставка в Венеции)» (1905), «Идеология мещанина нашего времени» (1908), «Генрик Ибсен» (1908) и «Сын доктора Стокмана» (1910) Г.В. Плеханов утверждает существование двух противоположных полюсов - условно «прогрессивного» и «реакционного». Между ними располагается предполагаемая шкала, в соответствии с которой автор выносит оценочные суждения. В рамках концепции Г.В. Плеханова то, что плохо понимается при использовании данного метода, не отбраковывается, а переносится в разряд низкого, неудачного, что соответствует схеме градуального распределения, оперирующей шкалой значений.
В рассматриваемом корпусе апелляция к прогрессу в качестве имма- нентной позитивной характеристики марксизма чаще встречается в публикациях до 1905 г. Этот прием используется ГВ. Плехановым для усиления позиций авторитетной инстанции, на которую он ссылается. В статьях, опубликованных после 1905 г, гораздо чаще можно встретить обвинения оппонентов в реакции, что, в свою очередь, должно дискредитировать теоретические предпосылки его противников.
В области искусства ГВ. Плеханов негативно относится к символистским и декадентским тенденциям, а также импрессионизму, поскольку считает, что теоретической основой их эстетики является идеализм и сопутствующий ему крайний индивидуализм («Пролетарское движение и буржуазное искусство (Шестая международная художественная выставка в Венеции)», «Сын доктора Стокмана», «Искусство и общественная жизнь» и др.). Идеализм не устраивает ГВ. Плеханова абстрактностью своих построений, оторванных от действительности. Индивидуализм, синонимом которого у ГВ. Плеханова иногда выступает субъективизм, критикуется за то, что он идет вразрез с объективными законами истории, научно обоснованными К. Марксом и Ф. Энгельсом. Как пишет А. Балицкий: «В основе обращения Плеханова к марксизму - акт выбора, определивший его систему ценностей, в соответствии с которой “естественные” процессы считаются превосходящими “искусственные” процессы. Для того чтобы преодолеть возражения социалистов-революционеров, Плеханов, разумеется, пытался убедить и себя самого, и их в том, что его выбор единственно научный, и что, строго говоря, он просто следует тем путем, который начертала сама история - путем, который не может изменить никакой “субъективный” протест» [Балицкий 2013, 444].
Подобная смена акцентов (от постулирования прогрессивности марксизма к критике оппонентов) может свидетельствовать об осознании ГВ. Плехановым изменений в структуре общественных связей. Появление и укрепление новых мировоззренческих парадигм, таких, как символизм, декадентство, ницшеанство, разветвление марксизма, народничество и т.д. повлияли на смену фокуса внимания в работах ГВ. Плеханова.
Несмотря на это, можно увидеть, что непрерывный поиск различных стратегий аргументации, обусловленный интеллектуальным контекстом рассматриваемого периода, неизменно вызывает потребность в наличии утверждений, которые, по мнению автора аргумента, могут приниматься в качестве истины и служить обоснованием аргументации. Это может быть одним из катализаторов актуализации мыслительной схемы градуального распределения, которая так же предполагает наличие некоего устойчивого критерия оценки фактов и явлений окружающей действительности.
При этом критическая стратегия, которую избирает ГВ. Плеханов в цитируемой выше статье («Искусство и общественная жизнь»), усложняется за счет актуализации еще одной мыслительной схемы - схемы иерархического переворота. Ее важнейшей составляющей является стабильность, основанная на динамической смене фаз активности элементов. Специфика отношений, поддерживающих систему в стабильном состоянии, заключа-
ется в открытом антагонизме, т.е. четком разделении на ценностно окрашенные бинарные оппозиции, взаимодополняющие друг друга в рамках целого.
Можно сказать, что оптика иерархического переворота фиксирует не столько переворот, сколько смену фаз движения и покоя или активности и пассивности элементов. На эту мысль наталкивают примеры, приведенные С.Н. Зенкиным для иллюстрации данной схемы. Так, в первом примере -пассаже Г.В.Ф. Гегеля о Господине и Рабе [Гегель 2000, 101] - господин единожды проявляет активность в поединке. Далее активен только раб.
Во втором примере рассматривается фрейдовская теория бессознательного [Фрейд 1990, 425-439]. Как пишет С.Н. Зенкин, «Фрейд разделяет душевную жизнь человека на две инстанции - сознание и бессознательное. Первое обычно доступно наблюдению, мы сознаем, как оно работает; второе же остается темным, подавленным («вытесненным») и не опознается бодрствующим сознанием, которое доминирует над ним» [Зенкин 2012, 89]. Однако, как отмечает С.Н. Зенкин, активность бессознательного может быть зафиксирована наблюдателем в моменты остроумия, творчества ит.д.
Третий пример - теория литературной эволюции, предложенная В.Б. Шкловским [Шкловский 1990, 121]. В.Б. Шкловский, говоря о том, что единовременно существует несколько литературных «школ», подразумевает, что только одна из них активна, т.е. опознается современниками в качестве литературного факта, в настоящий момент. Остальные же пассивны. Как писал В.Б. Шкловский, они «гуляют под паром», т.е. не признаются литературным фактом. Кстати, в этом случае еще и эксплицирован наблюдатель, который фиксирует чередование фаз.
Наконец, в «теории карнавальной культуры» М.М. Бахтина «официальная» культура активна большую часть времени, а для народной остаются лишь короткие карнавальные периоды [Бахтин 1990, 15].
На мой взгляд, в данной схеме важно, что элементы гомогенны. У Г.В.Ф. Гегеля и Господин, и Раб являются формами некоего общего сознания. У 3. Фрейда сознательное и бессознательное - тоже части одного и того же, психики или, как пишет С.Н. Зенкин, «душевной жизни человека» [Зенкин 2012, 89]. У В.Б. Шкловского и господствующая литературная школа, и те, что уже или еще не набрали сил, все равно принадлежат сфере литературы. Наконец, несмотря на тематические и формальные различия официальной и народной культур, у М.М. Бахтина они рассматриваются в рамках единого целого.
Похоже, в рамках данной схемы наблюдатель как бы видит «одним глазом», т.е. регистрирует только то, что активно. При этом наблюдатель предполагает, что у активного элемента есть слепая зона, область пассивности, которая покрывается другим - гомогенным первому - элементом.
Интересно, что в рамках данной схемы и тех примеров, которые привел С.Н. Зенкин, система статична, т.е. не подразумевает возникновения новых форм и новых отношений (на то она и иерархия). Схожее наблю- дение можно найти у М.М. Бахтина, который критиковал теорию литературной истории формалистов за то, что те так и не смогли объяснить, как в литературе появляется нечто новое: «Действительно, изобретение новых форм совершенно не требуется формалистическим законом имманентного развития литературы. Формалистическая схема нуждается в существовании только двух взаимно контрастирующих художественных направлений, скажем, Державинской и Пушкинской традиции, - допустим, что они находятся в отношении, требуемого теорией, взаимного контраста. Державинскую традицию сменяет Пушкинская. Державинская традиция становится младшей линией. Через известный промежуток времени Державинская традиция сменяет Пушкинскую, которая переходит теперь на положение младшей линии. Этот процесс может продолжаться до бесконечности. Ни в каких новых формах нужды не встречается. Если они придут, то по причинам совершенно случайным с точки зрения самого литературного развития» [Бахтин 1982, 218].
Возвращаясь к статье Г.В. Плеханова «Искусство и общественная жизнь», важно отметить, что автор посвящает ее описанию процессов в области искусства, выделяя два противоборствующих взгляда на природу и цель художественного творчества: «Одни говорили и говорят: не человек для субботы, а суббота для человека; не общество для художника, а художник для общества. Искусство должно содействовать развитию человеческого сознания, улучшению общественного строя. Другие решительно отвергают этот взгляд» [Плеханов 1923-1927, XIV, 120].
Мы видим, что существует динамическое напряжение между двумя взглядами на искусство. Они конкурируют между собой, поочередно занимая доминирующее положение и смещая собственную противоположность на периферию. Между ними, безусловно, есть специфические отношения конкуренции. То, что попадет в область эстетического, те. то, что будет считаться фактом искусства, зависит от того, как на искусство смотрят его производители и потребители - «художники и люди, живо интересующиеся художественным творчеством» [Плеханов 1923-1927, XIV, 123]. Чередование взглядов на искусство, пользуясь термином Г.В. Плеханова, «отражает» чередование двух моделей идентичности: коллективной и индивидуальной. При этом, ни одна из моделей не обладает монополией на производство шедевров.
В контексте всего вышесказанного кажется важным поставить вопрос о природе мыслительных схем: что это, исторически сложившиеся модели или же универсальные когнитивные структуры? В том случае, если мы подразумеваем, что мыслительные схемы историчны, т.е. актуализируются в разные исторические периоды, ставящие перед интеллектуалами принципиально разные задачи, на первый план выходит их несхожесть. Становится очевидным, что схема иерархического переворота, в рамках которой, в отличие схемы градуального распределения, динамика элементов осуществляется во времени, актуализируется Г.В. Плехановым тогда, когда автор начинает все чаще осмыслять явления культуры, не соответ-
ствующие назначенному им полюсу «истинного» искусства. Другими словами, можно предположить, что именно сложный и противоречивый социокультурный контекст является причиной этой актуализации. В нем одновременно существуют и сменяют друг друга разные тенденции, а марксистское течение, которое в наибольшей степени отвечает представлениям ГВ. Плеханова об историческом развитии, также обнаруживает внутренние противоречия и утрачивает монолитность.
С другой стороны, в рассмотренных схемах можно усмотреть некоторую общность: они обе могут считаться аналитическими в прямом смысле этого слова. В схеме градуального распределения критерий служит средством членения континуума на дискретные отрезки, а иерархический переворот разрабатывает некий уже целостный сам по себе концепт (психика, культура, сознание и т.д.), представляя его в виде двух противоположных, но дополняющих друг друга элементов.
С этой точки зрения обе рассмотренные схемы больше тяготеют к культурной стабильности. Противоположна им схема неоднородного поля. Несмотря на то, что в рассмотренных статьях она не встречается, целесообразно сказать несколько слов о ее механике и примерах, предложенных С.Н. Зенкиным (теория психики Ж. Лакана, семиотическая теория моды Р. Барта и «места памяти» П. Нора).
В рамках теории Ж. Лакана [Лакан 1995, 80] элементы («реальное», «воображаемое» и «символическое») соприкасаются друг с другом в «точках простежки». В отличие от теории психики 3. Фрейда, речь идет не о смене фаз активности, а о специфике одновременного взаимодействия, то есть о сложных отношениях между гомогенными элементами.
Теория моды Р. Барта [Барт 2003, 95-97] предполагает, что отношения между гомогенными объектами (деталями костюма) усложняются за счет введения дополнительного семиотического кода, т.е. дискурса моды. Вокруг отдельных элементов сгущается область значений, что и позволяет им оказывать определяющее влияние на систему в целом.
Наконец, проект Пьера Нора [Нора 1999, 17-50] работает с гетерогенными элементами, т.е. связывает в единую систему «определенные (не обязательно географические) точки реальности, в которых сосредоточена память данного сообщества о прошлом» [Зенкин 2012, 91].
Таким образом, если первые схемы можно отнести к разряду аналитических, то последняя скорее является синтетической. По-видимому она либо объединяет в целое гетерогенные элементы, либо исследует сложные и различные отношения между гомогенными, из-за чего становится актуальной в некие кризисные моменты.
Список литературы Формальный метод в интеллектуальной истории: применение мыслительных схем на примере статей Г.В. Плеханова
- Барт Р. Система Моды // Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры / пер. с фр., сост. С.Н. Зенкин. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. С. 31-357.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. 543 с.
- Бахтин М.М. Формальный метод в литературоведении / сост. Г. Поляк; ред. К. Кустанович. Нью-Йорк: Серебряный век, 1982. 237 с.
- Валицкий А. История русской мысли от Просвещения до марксизма. М.: Канон+; Реабилитация, 2013. 480 с.
- Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / пер. с нем. Г.Г. Шпета. М.: Наука, 2000. 495 c.
- Зенкин С.Н. Исторические идеи и мыслительные схемы: к поэтике интеллектуального дискурса // Зенкин С.Н. Работы о теории: статьи. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 86-95.
- Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. Доклад на Римском Конгрессе, читанный в Институте психологии Римского Университета 26 и 27 сентября 1953 года / пер. с фр. А.К. Черноглазова. М.: Гнозис, 1995. 192 с.
- Нора П. Проблематика мест памяти // Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де, Винок М. Франция-память / пер. с фр. Д. Хапаевой. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 17-50.
- Плеханов Г. В. Искусство и общественная жизнь // Плеханов Г.В. Сочинения: в 24 т. / под ред. Д. Рязанова. М.; Л.: Государственное издательство, 19231927. Т. 4. С. 120-182.
- Плеханов Г.В. Письма без адреса // Плеханов Г.В. Сочинения: в 24 т. / под ред. Д. Рязанова. Т. 14. М.; Л.: Государственное издательство, 1923-1927. С. 1-73.
- Фрейд З. Я и Оно // Фрейд З. Психология бессознательного: сборник произведений / сост., науч. ред. М.Г. Ярошевский. М.: Просвещение, 1990. С. 425-439.
- Шкловский В.Б. Розанов // Шкловский В.Б. Гамбургский счет: статьи -воспоминания - эссе. М.: Советский писатель, 1990. С. 120-139.