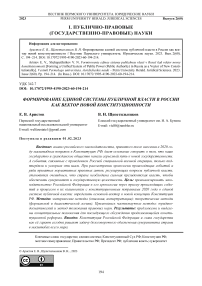Формирование единой системы публичной власти в России как вектор новой конституционности
Автор: Аристов Е.В., Щепетильников В.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Статья в выпуске: 2 (60), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение: анализ российского законодательства, принятого после внесения в 2020 году масштабных поправок в Конституцию РФ, дает основание говорить о том, что наше государство и гражданское общество начали серьезный путь к новой государственности. А события, связанные с проведением Россией специальной военной операции, только подтвердили и ускорили эти шаги. При рассмотрении хронологии происходящих событий и ряда принятых нормативных правовых актов, регулирующих вопросы публичной власти, становится очевидным, что стране необходима сильная президентская власть, чтобы обеспечить суверенитет и государственную целостность. Цель: проанализировать законодательство Российской Федерации в его хронологии через призму происходящих событий и процессов в их взаимосвязи с конституционными поправками 2020 года о единой системе публичной власти; определить основной вектор в новой концепции Конституции РФ. Методы: эмпирические методы (описания, интерпретации); теоретические методы (формальной и диалектической логики). Применялись частнонаучные методы: юридико- догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: предложены и выделены концептуальные положения для последующего обсуждения продолжающейся конституционной реформы. Выводы: Конституция Российской Федерации и глава государства как её гарант сегодня решают задачу безоговорочного обеспечения суверенитета страны в масштабах всего мира.
Государство, единая система, конституционный суд рф, конституция рф, местное самоуправление, правительство рф, президент рф, публичная власть, суверенитет
Короткий адрес: https://sciup.org/147241879
IDR: 147241879 | УДК: 342.7 | DOI: 10.17072/1995-4190-2023-60-194-214
Текст научной статьи Формирование единой системы публичной власти в России как вектор новой конституционности
Constitution of the Russian Federation, local self-government; Government of the Russian Federation;
President of the Russian Federation; public power; public authority; sovereignty
Организационные основы единой системы публичной власти
Изучению вопросов публичной власти, как конституционно-правовой категории, ее природы на сегодняшний день посвящено несколько научных трудов, в первую очередь исследования С. А. Авакьяна [8], В. В. Комаровой [4], А. А. Уварова [9], Б. С. Эбзеева [15]. Но особенно популярной в научных кругах эта тема стала в связи с последними поправками в Конституцию РФ.
В философской науке властью называется сила, оказывающая воздействие на тело, душу и ум, пронизывающая их, подчиняющая другого закону своей воли [1, с. 70]. Как и категория авторитета, она основывается на уважении и представляет собой этическую ценность только тогда, когда без непосредственного воздействия на субъект побуждает его к аксиологически значимым действиям.
Как мы ранее отмечали, заставить человека и гражданина творить такие ценности и уважать власть нельзя. Это естественный процесс, когда уважение к последней приходит через видимую и ощутимую заботу о населении со стороны государства. Именно в таком обществе и государстве, в такие моменты, по нашему убеждению, и формируются Стахановы, Курчатовы, Хренниковы, Гагарины… [14].
По мнению Д. Дж. Левинсон, выраженному в его работе «В поисках власти в публичном праве», термин «власть» так беспорядочно используется в конституционном и политическом дискурсе, что может показаться безнадежным настаивать на едином определении. Однако существует простое и интуитивное понимание власти, которое отражает большую часть того, что касается конституционной сферы. В большинстве случаев (хотя и не во всех) под «властью» в публичном праве следует понимать способность политических субъектов контро- лировать результаты оспариваемых процессов принятия решений и проводить предпочитаемую ими политику. Когда мы говорим о власти в политической жизни и в конституционном праве, предполагаем вид власти, подразумевающий способность оказывать воздействие на существенные результаты политики, влияя на то, что правительство будет или не будет делать. Вопрос о том, кто обладает властью в этом смысле, эквивалентен вопросу в знаменитой формулировке профессора Р. Даля: «Кто управляет?» [19, с. 38–39].
Высказывалось мнение, что к публичной власти нужно отнести власть общественную, власть территориальных общественных коллективов и власть частных субъектов, поскольку они могут оказывать влияние на правовой статус личности [23, с. 412–418].
Что побудило нынешнюю публичную власть – ее законодателей, правоприменителей и суды – к столь масштабным изменениям в своих статусах, порядках формирования, полномочиях и т.д.? Как видится, этого требуют обстоятельства.
Конституционное право, регулируя фундаментальные отношения по устройству государства, организации государственной власти, обеспечивая «единство, целостность, управляемость общества как единой социальной системы», формирует предмет своей отрасли [3]. В результате конституционной реформы начинают складываться новые принципы, правовые конструкции, понятия.
За относительно короткое время приняты Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»1, давший старт конституционной реформе, и ряд других актов высшего ранга, принятие которых подтверждает идею о том большом пути, который предстоит пройти России.
Одним из первых этапов в этом пути стало принятие Федерального конституционного закона в редакции от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»2. В нем подтверждено положение Конституции
РФ о месте Правительства РФ в системе органов власти как органа публичной власти с усилением роли Президента РФ в обеспечении слаженной работы и взаимодействия Правительства РФ с органами, входящими в единую систему публичной власти. Принцип единства системы публичной власти называется одним из основных в деятельности кабинета министров, а среди общих полномочий выделяется осуществление взаимодействия и координация деятельности органов публичной власти в рамках единой системы исполнительной власти в РФ.
Представляется, что в связи с этим крайне важным и знаковым выступает создание Координационного центра в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 2021 г. № 171 «О Координационном центре Правительства Российской Федерации»3. С учетом того что он является постоянным органом при Правительстве РФ, его формирование было необходимо для обеспечения оперативных и согласованных действий «федеральных и региональных органов исполнительной власти, организаций» в разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций), проработки приоритетных задач Правительства РФ и выполнения так называемых выделенных проектов в условиях временных и ресурсных ограничений. Очевидно, что государство готовилось к различным сценариям развития событий внутри страны и вне ее, и события 2022 года – явное тому подтверждение. Правда, здесь, как видим, не упоминаются органы местного самоуправления как часть единой системы публичной власти.
Далее, Федеральным конституционным законом от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О Конституционном Суде Российской Федерации”»4 в соответствии с поправками к Основному закону страны приведен порядок формирования, организации и функционирования данного высшего судебного органа. Сокращение числа судей, проверка конституционности региональных законов по запросу главы государства, толкование Конституции РФ по запросам Президента РФ, Совета Феде- рации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства РФ, представительных органов власти регионов; проверка по запросу Президента РФ, Верховного Суда РФ конституционности вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом, регулирующим проведение референдума, – все изменения были вызваны объективными обстоятельствами, и сегодня их нужно осмыслить, но они снова подтверждают верховенство главы государства в формировании единой системы публичной власти.
В условиях повсеместной цифровизации, чему глава государства регулярно уделяет внимание в условиях трансформации органов публичной власти, закон коснулся и положений по совершенствованию в организации деятельности Конституционного Суда России.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы»1 с 2023 года упразднены конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. С 1 января 2023 года утратила силу статья 27 Закона о судебной системе Российской Федерации, регулирующая вопросы создания и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Кроме того, с указанной даты из целого ряда законодательных актов исключены положения о конституционных (уставных) судах субъектов РФ. С 19 декабря 2020 г. эти суды перестали принимать новые дела к производству и до своего упразднения (а упразднить их закон предписывал до 1 января 2023 года) лишь заканчивали рассмотрение уже принятых к производству дел. Упразднение этих судов связано с тем, что положениями обновленной Конституции РФ закреплен исчерпывающий перечень судов судебной системы России, а конституционные (уставные) суды субъектов в этот перечень уже не включены. Кто-то в этих процессах видит дальнейшую централизацию власти и утрату самостоятельности отдельных субъектов РФ, хотя регионы и получили воз- можность создавать конституционные (уставные) советы при представительных органах власти в регионах. На данный момент такие конституционные советы созданы, в частности, в Адыгее, Башкортостане, Якутии. Однако в соответствии с законами названных субъектов РФ, определяющими статус конституционных советов, решения этих органов будут носить рекомендательный характер.
Усиление роли Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, во исполнение пункта «л» части 1 статьи 102 Конституции РФ, в части получения сенаторами права прекращать по представлению Президента полномочия председателей, заместителей и судей высших судов РФ при определенных обстоятельствах является выражением принципа системы сдержек и противовесов. Это должно положительно сказываться на морально-этическом облике судейского сообщества и дисциплинировать его, делая невозможным не предавать огласке и оставлять без внимания какие-либо факты, которые порочат честь и достоинство судьи, включив в круг ответственных не только самих судей, но и их супругов, а также несовершеннолетних детей в случае нарушения последними финансовых запретов. Ибо финансовая зависимость, в особенности от зарубежных источников, очевидно, делает уязвимыми служителей Фемиды.
Таким образом, судебная система как неотъемлемый элемент публичной власти государства также подверглась масштабным преобразованиям, что подтверждается Указом Президента РФ от 17 февраля 2021 г. № 96 «Об обеспечении реализации некоторых конституционных полномочий Президента Российской Федерации»2 в части уточнения порядка прекращения полномочий отдельных категорий судей, указанных в части 3 статьи 15 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и статье 14.1 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».
Считаем крайне важным и символичным в этом ряду изменений в законодательстве и приведение в соответствие с вступившими в силу поправками к Конституции РФ Федерального закона «О безопасности»1, в части неисполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Основному закону страны. Это свидетельствует о том, что сделан еще один шаг в реализации конституционных положений по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, ранее продекларированных в Стратегии национальной безопасности России2. Полномочие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проводить консультации по предложенным Президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая министров) в области обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, бесспорно, будет соответствовать обозначенным принципам. Запрет Заместителю Председателя Совбеза, Секретарю Совбеза, всем его членам открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, укрепил независимость ключевых в единой системе публичной власти фигур от неблагоприятных внешних факторов. Аналогичные изменения коснулись статуса и Уполномоченного по правам человека в РФ, которому также запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации3. В свете проведения специальной военной операции деятельность нынешнего Уполномоченного выходит на особый план, и поэтому подобные ограничения логичны и укладываются в концепцию обеспечения суверенитета нашей страны.
Федеральным законом от 9 ноября 2020 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 16 Федерального закона “О федеральной службе безопасности” и статьи 12 и 17 Федерально- го закона “О внешней разведке”»4 в соответствии с вступившими в силу поправками в Конституцию РФ был определен новый порядок назначения Президентом РФ на должность руководителей ФСБ России и СВР России –после проведения консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Такая конструкция сделала сенаторов сопричастными принятию ключевых решений по обозначенным кандидатурам. При этом невозможность при поступлении на службу в ФСБ России или СВР России граждан РФ иметь не только гражданство (подданство) иностранного государства, но и вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, имеет только одно исключение, когда это обусловлено решением задач оперативно-служебной или разведывательной деятельности.
Прокуратура РФ, как единая федеральная централизованная система надзорных органов, также попала под изменения в правовом статусе. Федеральным законом от 9 ноября 2020 г. № 367-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федера-ции”»5 был введен новый порядок назначения на должности прокурорских работников, что в очередной раз подчеркивает укрепление власти Президента РФ и обозначение роли Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не только как высшего законодательного органа, но и как консультативного. Положение об отсутствии не только гражданства (подданства) иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, стало очередной новеллой данного закона.
В Федеральном законе от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации»6, как уже было отмечено выше, дано легальное определение единой системы публичной власти.
Итак, единая система публичной власти понимается в законе как совокупность феде- ральных и региональных органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность в конституционно установленных пределах на основе принципов согласованного функционирования и организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного взаимодействия, устанавливаемого на основании Конституции Российской Федерации и в соответствии с законодательством, в том числе по вопросам передачи полномочий между уровнями публичной власти, в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для социально-экономического развития государства.
По нашему мнению, ключевыми здесь являются несколько положений.
Во-первых, рассмотрение органов публичной власти в их совокупности. Пункт «г» статьи 71 Конституции РФ отнес к ведению федерального центра организацию публичной власти, установление системы федеральных органов всех ветвей власти, порядка их организации и деятельности, а также формирование федеральных органов государственной власти.
При сопоставлении вышеуказанного положения Конституции РФ и определения единой системы публичной власти, данного в Законе о Госсовете, очевидно, что в данную систему входят собственно отдельные системы законодательной, исполнительной, судебной властей, а также органы Прокуратуры РФ, Президент РФ, Центральный банк России, Счетная палата РФ и некоторые другие, именуемые в Законе как иные органы. Об этом же, по сути, говорит и профессор М. В. Мархгейм, отмечая, что «в конституционно-правовой доктрине институт публичной власти ординарно используется для обозначения совокупности органов, представляющих все ее уровни (в России это федеральный, субъектный, муниципальный) и функциональные ветви (традиционно это законодательная, исполнительная, судебная)» [5, с. 30].
Во-вторых, обозначенные в законе принципы согласованного функционирования и взаимодействия обеспечивает глава государства через данный конституционный орган – Госсовет. Президент РФ, Правительство РФ, Государственный Совет, другие органы публичной власти координируют деятельность органов, входящих в единую систему публичной власти через принимаемые ими решения.
В-третьих, реализация принципов организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного взаимодействия предполагает: эффективность в осуществлении публичных функций на любой территории и выполнение социально-экономических обязательств государства перед гражданами; самостоятельность осуществления органами публичной власти своих полномочий, но с учетом целесообразности и экономической обоснованности распределения этих полномочий; гарантированность необходимого финансового обеспечения при передаче полномочий между уровнями публичной власти.
Обращаем внимание, что именно Госсовету вменяется определение основных направлений внутренней и внешней политики страны и приоритетных направлений ее социальноэкономического развития. Через разработку стратегических задач и целей внутренней и внешней политики, через формирование государственной политики в области социальноэкономического развития России, ее субъектов и муниципальных образований будет происходить согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти. В этом видится и делегирование главой государства части своих полномочий Госсовету, и механизм их реализации при его председательстве.
Руководство Президентом РФ деятельностью Госсовета (в составе Председателей Правительства, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Руководителя Администрации Президента РФ; высших должностных лиц регионов; с возможностью участия в его работе по решению Президента РФ представителей политических партий, имеющих фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; представителей местного самоуправления; иных лиц) делает этот орган важным государственным инструментом в вопросе дальнейшего формирования единой системы публичной власти.
Принципиально важной теперь становится возможность передавать полномочия внутри системы публичной власти. И хотя подобная практика была и ранее, когда органы местного самоуправления наделялись отдельными государственными полномочиями, в нынешних условиях гарантируется их необходимое финансовое обеспечение, что в условиях тотального дефицита местных бюджетов является важным для муниципалитетов, входящих теперь в единую систему. Органы местного самоуправления принимают участие в осуществлении имеющих государственное значение публичных функций на соответствующей территории как в порядке наделения названных органов отдельными государственными полномочиями, так и в ином порядке в соответствии с федеральным законом. Региональными законами между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение полномочий. Примечательно, что при разграничении полномочий между органами местного самоуправления, если в границах территории одного муниципального образования имеются другие муниципальные образования, компетенция соответствующего органа местного самоуправления должна определяться исходя из интересов населения. В подтверждение справедливости вышесказанного в зарубежных исследованиях отмечается, что смысл децентрализации состоит не только в ослаблении центральной власти и предпочтении местных элит центральной власти, но и в том, чтобы управление на местном уровне было более чутким к потребностям большинства населения [16, с. 185–205].
По мнению Н. Н. Мусиновой, у муниципального уровня власти должен быть свой круг задач и отграниченные финансовые средства для их решения. Целесообразно в новом законе об органах местного самоуправления для обозначения предметов ведения муниципального уровня власти использовать уже привычный и понятный термин «вопросы местного значения», а не «полномочия», как это предлагается в существующем законопроекте [6, с. 77–84].
Как отмечают зарубежные исследователи, местное самоуправление следует отличать от местной администрации, где последняя является исполнителем; приказы государства, т. е. центрального правительства, просто выполняются местными органами власти. Местное самоуправление требует нечто большего, чем просто выполнение централизованно плани- руемых решений, а именно – чтобы местные подразделения обладали собственной политической властью, сферой полномочий, в пределах которой местные сообщества имеют право принимать решения по определенным внутренним делам. Следовательно, основополагающий принцип сильного и защищенного Конституцией местного самоуправления заключается в том, чтобы местные подразделения имели право принимать свои собственные решения в определенных областях, не требуя одобрения центрального правительства [17, с. 5]. Представляется, что подобные умозаключения подтверждают логику отечественного законодателя рассматривать органы местного самоуправления как неотъемлемую часть единой системы органов публичной власти, но не будучи лишенными самостоятельности в принятии решений местного значения, о чем говорил глава государства.
Законом Липецкой области от 21 июня 2021 г. № 535-ОЗ «О поправках к Уставу Липецкой области Российской Федерации» в статье 63 во исполнение Конституции РФ также указано, что органы местного самоуправления и органы государственной власти области входят в единую систему публичной власти страны и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории области1.
Позднее Законом Липецкой области от 26 мая 2022 г. № 93-ОЗ «О поправках к Уставу Липецкой области Российской Федерации» было внесено дополнение о том, что органы государственной власти области, государственные органы области, органы местного самоуправления, действующие на территории области (далее также – органы, входящие в единую систему публичной власти в области, органы публичной власти области), при осуществлении своих полномочий обеспечивают соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов2.
Если разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти осуществляется в соответствии с Конституцией
РФ и федеральными законами, то передача части полномочий между федеральными и региональными органами исполнительной власти осуществляется по взаимному соглашению, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам.
В этой связи следует согласиться с авторами, которые констатируют, что «формирование единой системы публичной власти при этом требует более глубокой проработки механизмов конституционно заявляемого “взаимодействия”. Очевидно, что оно не может ограничиваться институтом передачи государственных полномочий на местный уровень, необходимы инструменты совместного решения отдельных публичных задач. Пока же серьезной законодательной работы в этом направлении не проводилось, а положения уже принятых либо планируемых к принятию нормативных актов оставляют больше вопросов, чем ответов» [2, с. 49–62].
Президент РФ 21 декабря 2021 года подписал еще один знаковый для процесса формирования единой системы публичной власти Федеральный закон № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»1. С 2023 года он заменил Закон об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти регионов. Статья 1 Закона воспроизводит положение пункта 3 статьи 132 Конституции РФ, установив, что федеральные органы исполнительной власти осуществляют полномочия в регионах во взаимодействии с органами государственной власти субъекта Федерации, органами местного самоуправления, и уже в совокупности они формируют единую систему публичной власти в регионе. Здесь же обозначены основные положения в деятельности этих органов, в частности: те же согласованное функционирование и взаимодействие, а также гарантии финансового обеспечения исполнения полномочий, обеспечение гласности, государственный, парламентский и общественный контроль.
Интересна практическая реализация положения о согласованном функционировании, например, главы местной администрации го- родского округа и руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти, которое, по смыслу двух вышеназванных законов, обеспечивает Президент РФ: как это должно происходить, в каких административно-правовых формах и с помощью каких методов. Ведь очевидно, что у каждого из них свои предметы ведения и полномочий, своя «система координат», в которой он вращается и осуществляет свои функции. И кто с кем в таком случае должен согласовывать свои действия и решения? Как обеспечить принцип единства системы публичной власти, если изначально они как бы в разных системах? Вспоминается лишь положение статьи 25 Закона №414-ФЗ об основных полномочиях губернаторов как высших должностных лиц регионов, координирующих деятельность исполнительных органов в регионах с иными органами государственной власти регионов и в соответствии с законодательством РФ организующих взаимодействие исполнительных органов региона с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления, иными органами, входящими в единую систему публичной власти.
Закон все же предполагает в статье 62 возможность возникновения споров между законодательным органом субъекта Федерации и его высшим исполнительным органом по вопросам осуществления ими своих полномочий, которые разрешаются в соответствии с согласительными процедурами, предусмотренными Конституцией РФ, конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации либо в судебном порядке.
Однако важно отметить, что по смыслу Закона (ч. 2 ст. 62) органы публичной власти могут обращаться в Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласительных процедур и для разрешения разногласий только между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий между указанными органами, в целях достижения согласованного их решения. Возникает вопрос о не-
Аристов Е. В., Щепетильников В. Н. возможности в таком случае обращения того же главы местной администрации как органа единой системы публичной власти в Госсовет по вопросу обеспечения согласительной процедуры между ним и федеральным органом. Разве между ними не может быть разногласий?
В этой связи вспоминается рассказ одного из руководителей промышленных предприятий, который решал в период СССР насущные для завода вопросы напрямую с министром промышленности. И это не единственный пример, а существовавшая в то время практика. Именно в таком ключе и видится единство системы публичной власти применительно к возможности органов местного самоуправления в каких-то вопросах «через голову» губернаторов, региональных правительств и т.п. взаимодействовать и функционировать согласованно с высшими органами власти. Да и высшим органам не мешало бы иногда «спускаться на землю» и видеть реальную ситуацию на местах, находясь в прямом контакте с теми, кто ближе к народу, – органами местного самоуправления, а не довольствоваться лишь «сухими» отчетами от региональных властей.
Рассмотрим в качестве примера один из регионов – Липецкую область, где в настоящее время проводится реформирование органов местного самоуправления. Законопроект о муниципальных округах был разработан правительством региона и принят на сессии Липецкого областного Совета депутатов в начале февраля 2023 года1. В соответствии с предлагаемыми изменениями в Устав Липецкой области и региональный закон «Об административно-территориальном устройстве Липецкой области и порядке его изменения» в Липецкой области помимо городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений (сельсоветов) возникнет новый тип муниципального образования – муниципальный округ. Внесение таких изменений разработчики законопроекта объясняют необходимостью реализации имеющихся инициатив органов местного самоуправления по преобразованию ряда муниципальных районов нашей области в муниципальные округа. Фактически это означает объединение/упразднение администраций сельских поселений и сельских советов с переходом на одноуровневую модель местной власти на уровне муниципального округа. Еще в прошлом году в четырех муниципальных районах Липецкой области прошли публичные слушания по вопросу создания муниципальных округов. И следует заметить, что эти инициативы сверху неоднозначно были восприняты населением и местными властями. Где-то было сопротивление, где-то, наоборот, единодушие в оценке правильности такого пути2. Вопросы здесь вызывает та поспешность, с которой отдельные территории пытаются провести подобные изменения, несмотря на то что иногда приводятся разумные аргументы, связанные с экономией бюджетных средств, устранением дублирующих функций и т.п.
При этом и сам проект Федерального закона, инициированный тандемом сенатора А. А. Клишаса и депутата П. В. Крашенинникова № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» приостановлен в первом чтении по состоянию на 21 февраля 2022 г.3 Помимо значительного количества поправок, поступающих в нижнюю палату парламента, сказывается, конечно же, и общая ситуация в стране.
В пояснительной записке (п. 3) к проекту закона его авторы указывают, что новая модель организации и деятельности органов местного самоуправления предусматривает уточнение их компетенции. Якобы существующая конструкция с одновременным закреплением в федеральном законодательстве и вопросов местного значения, и полномочий по их решению «приводит к путанице при перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Вопросы местного значения являются одним из элементов компетенции органов местного самоуправления, при этом, исходя из действующих формулировок, конкурируют по содержанию с закрепленными в федеральных законах полномо-чиями»4. Поэтому законопроект предусматри- вает закрепление непосредственно полномочий органов местного самоуправления.
По замыслу разработчиков нового закона о местном самоуправлении в будущем будет только три типа муниципальных образований: городские округа, муниципальные округа и внутригородские территории (внутригородские муниципальные образования) городов федерального значения.
По мнению парламентариев (п. 4 пояснительной записки), «одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. Предлагаемый подход, учитывая высокую дотационность, а также широко применяемую практику перераспределения полномочий с поселенческого уровня на региональный, передачи поселениями своих полномочий органам местного самоуправления муниципальных районов на основе соглашений (в отдельных случаях вплоть до 100 %), позволит повысить эффективность органов местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности»1.
В одном из исследований авторами вводится такое определение эффективности единой системы публичной власти, как качество (свойство) публично-правового явления, соответствующее требованиям законодательства, позволяющее сформировать наиболее оптимальную модель взаимодействия государственных органов, муниципальных органов и институтов гражданского общества, а также удовлетворить реализацию человеком своих прав, свобод и законных интересов, при этом отвечающее оптимальным затратам количественного и качественного характера [10, с. 76–88].
Логика федерального центра на укрупнение административно-территориальных единиц с точки зрения оптимизации управления ими понятна. Применительно к единой системе публичной власти мы неизбежно упираемся в формирование системы управления. И здесь хотелось бы вспомнить Заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора А. П. Алехина, который еще в начале 2000-х го- дов, говоря об организации управления, отмечал следующее: «Современному характеру взаимоотношений между органами государственного управления РФ и ее субъектов противоречит организационно-правовая конструкция “единой системы отраслевых министерств, ведомств”, основанная, как известно, на жестокой централизации и отношениях по принципу “власть – подчинение” ˂…> Единые системы сформированы в управлении рядом централизованных отраслей административно-политической сферы (обороны, безопасности и др.) ˂…> Содержание организации управления включает решение различных вопросов ˂…> В тех случаях, когда решение указанных вопросов затрагивает интересы субъектов РФ и органов местного самоуправления, они должны предварительно обсуждаться и согласовываться с ними. Органа, который бы обладал всем комплексом полномочий по вопросам административной организации управления, нет и быть не может. Неизбежно взаимодействие между всеми органами, причастными к решению тех или иных вопросов» [1, с. 343–346].
Обсуждение законопроекта о местном самоуправлении в первом чтении было достаточно оживленным, что подтверждает жизненную важность данного уровня публичной власти. Выступления депутатов касались в том числе того, что отзывы на него были получены лишь от нескольких регионов, но не от самих муниципалитетов, которых более 20 тысяч2.
По словам А. П. Алехина, в действующих системах управления связи между субъектами управления и сферами управления имеют различные формы (общее, непосредственное, прямое, оперативное, двойное подчинение, соподчинение).
В Оксфордском справочнике по государственной политике отмечается, что в литературе по государственному управлению концепции, связанные с совместным управлением, в настоящее время прочно вошли в мейнстрим. «Новое государственное управление» сосредоточено на непрямых механизмах сотрудничества для выполнения общественной работы. Переход к новому управлению основан на представлении о том, что механизмы такого рода, которые мы называем совместным управлени- ем, становятся нормой. Сотрудничество между государственным и частным секторами от многих новых инструментов общественной деятельности отличает то, что они предполагают совместное использование преимущественно базовых государственных функций: осуществление усмотрения в отношении использования публичной власти и расходования государственных средств [21, с. 500]. И ещё одно замечание, сделанное в справочнике, сводится к такой проблеме, присущей американскому обществу, как «фрагментация публичной власти», повсеместное влияние бизнеса и готовность государственных чиновников следовать по пути наименьшего сопротивления в краткосрочной перспективе [21, с. 876].
Представляется, что в сложившихся условиях в РФ применительно к единой системе органов публичной власти наиболее целесообразной формой было бы сочетание оперативного подчинения, когда «нужна быстрая реакция на возникающие вопросы, требующие вмешательства вышестоящего или нижестоящего органа (должностного лица) либо при необходимости руководства текущей работой органа (должностного лица) вышестоящего подчинения)» и соподчинения, т. е. одновременного подчинения, например, главы местной администрации губернатору и главе государства (или председателю Правительства РФ) [1, с. 347–348]. Тогда, на наш взгляд, оправдано понимание единства системы органов публичной власти. Схожую позицию можно встретить и у других исследователей, которые отмечают, что осуществление задачи по повышению качества жизни и оптимизация длительности ее выполнения требует выстраивания вертикали власти на принципах координации и подчиненности. Поэтому логика Конституции Российской Федерации не только устанавливает ограничения для органов государственной власти в вопросах, подведомственных органам местного самоуправления, но и закрепляет обязанность государственной власти обеспечить реальное функционирование органов местного самоуправления, используя механизмы, которые находятся в ведении государственных органов [12, с. 750–767]. Правда, нужно сделать оговорку, что это не отменяет положения статьи 12 Конституции РФ о самостоя- тельности местного самоуправления в пределах своих полномочий.
По словам О. В. Поповой, попытки повысить эффективность местной власти за счет укрупнения дают лишь краткосрочный и несущественный эффект, создавая сложности для жителей реорганизованных территорий в плане получения качественных муниципальных услуг и реализации самоуправления [7, с. 5–23]. Для оценки целесообразности такого укрупнения в муниципальных образованиях необходимо время.
Возвращаясь к системе органов власти в регионе по Закону № 414-ФЗ, следует отметить в ее составе законодательный орган, высшее должностное лицо, высший исполнительный орган и иные органы власти. Главы регионов и депутаты законодательного органа избираются на 5 лет. Губернатор формирует правительство региона и принимает решение о его отставке. Он также вправе самостоятельно возглавить высший исполнительный орган региона либо ввести отдельную должность председателя указанного органа. Закон определяет и порядок внесения законодательными органами региона законопроектов в нижнюю палату федерального парламента. Помимо этого, теперь и региональные прокуроры являются субъектами права законодательной инициативы в региональных парламентах.
Далее, в целях реализации положений статьи 67 Конституции РФ о федеральных территориях был принят соответствующий Федеральный закон, и первым из таких образований стала федеральная территория «Сириус», признанная публично-правовым образованием, в котором устанавливаются особенности организации публичной власти1. В систему органов публичной власти данной территории вошли: Совет федеральной территории (представительный орган), возглавляемый председателем Совета; администрация (исполнительнораспорядительный орган), возглавляемая главой администрации; иные органы публичной власти (если их образование предусмотрено Уставом федеральной территории «Сириус»). Подобный статус позволяет устанавливать спе- циальное регулирование отношений, в том числе в сфере технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулирования градостроительной деятельности и др.
Новый порядок формирования верхней палаты Парламента1 с пожизненным статусом сенатора в отношении Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, а также еще семи граждан РФ, назначаемых главой государства, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности, безусловно, является новой для российской правовой системы моделью и объясняется инициаторами такого решения наличием у носителей данного статуса необходимых стране мудрости и опыта2.
Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области»3 и Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области»4 содержат в себе одну и ту же юридическую конструкцию, в которой говорится об органах публичной власти. Аналогичная конструкция присутствует и в федеральных конституционных законах о принятии в состав РФ республик ДНР и ЛНР.
Указ Президента РФ от 14 ноября 2022 г. № 820 «Об утверждении Порядка согласования с федеральными органами публичной власти вопросов осуществления публичной власти в Запорожской области и Херсонской области»5 применяет ту же конструкцию.
Возникает вопрос: по какой причине в другом нормативном правовом акте иначе именуются органы власти в новых субъектах Федерации? Имеется в виду Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. № 2502 «О порядке и случаях согласования правовых актов и других решений органов государственной власти Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, органов публичной власти Запорожской области и Херсонской области в отношении управления и распоряжения отдельными объектами имущества»6. Соответственно в республиках ДНР и ЛНР – органы государственной власти, а в новых областях РФ – органы публичной власти. Равноценны ли здесь, синонимичны ли понятия «государственная власть» и «публичная власть»? Казалось бы, выборы еще не прошли ни в одном из новых субъектов7, но разные формулировки органов власти должны чем-то объясняться.
Охранительная функция публичной власти
С учетом нередко предвзятых, ожесточенных и порой откровенно враждебных выпадов, а также деструктивной деятельности в отношении России со стороны ряда недружественных стран, мы можем проследить и ту определенно защитную линию, которую наше государство избрало и последовательно проводит, в особенности последние два-три года, как представляется, продолжающую конституционную реформу.
Так, например, Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»8 установлена административная ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, в том числе совершенных с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в соответствии с новой статьей 20.3.2 КоАП РФ, если эти действия не
Аристов Е. В., Щепетильников В. Н. содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Далее, федеральными законами от 8 декабря 2020 г. № 427-ФЗ1, 428-ФЗ2, 429-ФЗ3 более чем в 115 законов, в том числе в Гражданский кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс об административном судопроизводстве РФ, внесены дополнения о верховенстве Конституции РФ и приоритете ее прямого действия на территории страны, согласно которым не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, когда подобное противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.
Нужно отметить, что зарубежные ученые, политологи и другие исследователи с большим интересом обсуждают поправки в Конституцию РФ 2020 года. Так, Каролина Вендил Паллин и ее коллеги в своем экспертном анализе конституционных реформ описали введение концепции публичной власти как попытку объединить государственную власть и местное самоуправление, которые уже были серьезно ограничены в прошлом. В результате, по их мнению, конституционные изменения еще больше ущемляют право на местное самоуправление [22]. Аналогичным образом Элизабет Тиг комментирует, что одним из мотивов включения термина «публичная власть» в конституционную реформу, по-видимому, было создание способа объединить государственные органы и органы местного самоуправления в единое целое [24, с. 315].
Вообще, удивительно, что некая Венецианская «Европейская комиссия за демократию через право» вмешивается в наши внутренние дела и дает оценку относительно поправок в Конституцию и связанных с ней законов. Так, указанная комиссия в промежуточном заключении о конституционных поправках отмечает, что разделение полномочий между государственными органами государственной вла- сти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации – важная мера в системе сдержек и противовесов. Но статья 80 ввела новое понятие – «единая система публичной власти». Последствия этой терминологии члены комиссии видят в серьезном ограничении полномочий местного самоуправления. Возможность органов государственной власти участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначать и освобождать от занимаемых должностей должностных лиц местного самоуправления в порядке и в случаях, предусмотренных федеральным законом (ст. 131 Конституции РФ), они называют усилением централизации с дальнейшим утверждением «русского» характера Федерации, полагая что поправки серьезно ограничивают региональную и местную автономию до такой степени, которая, по-видимому, противоречит федеративному характеру Российской Федерации. В итоге комиссия приходит к выводу, что укрепление полномочий главы государства происходит не только за счет Правительства, Думы и Совета Федерации, но и за счет регионов и даже органов местного самоуправления, что, по их мнению, противоречит идеям Федерации и местной демократии, гарантированным в статьях 11 и 12 Основного закона [18]. Вот чего боится коллективный Запад – дальнейшего укрепления Российской Федерации. Комментарии здесь, как говорится, излишни. Странно было бы, если бы нас хвалили. Судя по данным отзывам, мы все делаем правильно и идем в верном направлении.
А вот в США публичную власть считают важным современным американским институтом. От маленьких городов до больших городов – везде публичная власть есть выражение американского идеала сообщества местных жителей, работающих вместе для удовлетворения местных потребностей. Это проявление местного контроля [23]. Не правда ли, две большие разницы?
В связи с принятием поправок к Конституции РФ был опубликован Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 462-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона “О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи”»1, уточнивший условия неприкосновенности Президента РФ, прекратившего свои полномочия. Эти гарантии теперь не связаны периодом президентства, и сам процесс лишения неприкосновенности происходит уже с участием не только обеих палат Федерального Собрания РФ, но и Верховного и Конституционного Суда РФ, что, по нашему мнению, становится защитным механизмом для бывшего главы государства, лишенным элементов субъективизма или сговора.
Далее, Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности»2 был ужесточен контроль в отношении организаций, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах в России. Теперь стало запрещено распространять в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях информацию о некоммерческих организациях, общественных объединениях, гражданах, включенных в соответствующие реестры лиц, выполняющих функции иностранного агента, материалы, созданные этими гражданами, без пометки о том, что они – иноагенты. Одним словом, своего потенциального врага нужно знать в лицо. И это абсолютно правильно в нынешних условиях. Государство методично готовило правовую почву, видя, как со всех сторон на нас обрушивается шквал дезинформации, с которой нужно работать. Устанавливается также уведомительный порядок учета общественных объединений, действующих в нашей стране без государственной регистрации, которые финансируются из-за рубежа для участия в сфере политики. Эти сведения образуют реестр незарегистрированных объединений с функциями иноагента. Такие организации обязаны ежеквартально информировать Минюст о получаемых средствах и их расходовании. Свои материалы они будут обозначать как произведенные незарегистрированным обще- ственным объединением, выполняющим функции иноагента.
А уже 14 июля 2022 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»3, называемый также законом об иноагентах, который с 1 декабря 2022 года вступил в силу. Иноагенты – это лица, получившие иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием в других формах. Теперь для признания иноаген-том обязательно фактическое иностранное финансирование. Деятельность иностранного агента должна быть связана с политикой, сбором сведений в области военной и военнотехнической деятельности страны, распространением сообщений и материалов, рассчитанных на неограниченный круг лиц или участием в их создании. При этом определен перечень тех, кто не признается иноагентом. Это органы власти, государственные компании, религиозные организации, политические партии, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты. Всех иноагентов заносят в один реестр. Кроме того, ведется также реестр лиц, аффилированных с иностранными агентами. На них, правда, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Исключить из реестра могут за отсутствие соответствующей деятельности в течение года до подачи иностранным агентом заявления об исключении. Иностранные агенты не могут быть государственными служащими, членами избирательных комиссий (которых, к слову, уже выявила у себя ЦИК РФ4) и совещательных органов при органах власти, не могут проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, а также организовывать публичные мероприятия, проводить просветительскую деятельность с несовершеннолетними, не могут преподавать в государственных образовательных организациях, участвовать в госзакупках, получать государственную финансовую поддержку, применять упрощенную систему налогообложения.
Аналогичный механизм учета граждан, участвующих в политической деятельности и собирающих сведения о военно-технической деятельности государства в интересах иностранного источника, также закреплен в Законе. Перечень этих сведений определяется органами ФСБ. Такие граждане обязаны заявиться на включение в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, и не реже раза в полугодие представлять отчет о своей деятельности. Они не вправе состоять на государственной службе, а также не вправе иметь доступ к государственной тайне.
В вышеназванном законе определяется также понятие «политическая деятельность», которая выражается в наблюдении за проведением публичных мероприятий, выборов, за деятельностью политических партий и т. д.
А как же наши западные «коллеги» рассматривают и оценивают происходящие в России изменения? По-прежнему отрицательно. Не станем приводить их высказывания, отметим лишь, что еще до начала этих преобразований, в 2018 году, в одном из западных изданий отмечалось, что в современной России, пережившей массовую приватизацию 1990-х годов и отмеченной более или менее скрытой отдачей от национализации производственных активов, существует двойной режим, связанный, с одной стороны, с порядком, регулируемым конституцией, с другой – с административной властью, лишенной внимания регулирующих органов, основан на хаотических отношениях, по-прежнему регулируемых, как они выражаются, по принципу «Интерпелло», (т.е. препятствий, запретов) [20].
В дополнение Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 в связи с принятием Закона о контроле за деятельностью иностранных агентов были внесены поправки в законы о политических партиях2, которым теперь запрещается заключать сделки с иноагентами; закон о страховании вкладов3, согласно которому день- ги, размещенные иностранными агентами, кроме граждан или в их пользу, не страхуют; о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях4 – теперь иностранные агенты не смогут организовывать и спонсировать публичные мероприятия; о бухгалтерском учете5 в части недоступности упрощенных способов ведения бухучета для организаций-иноагентов; о государственном (муниципальном) социальном заказе6, где в отношении иностранных агентов установлен запрет на участие в отборе исполнителей услуг; о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в части установления запрета иностранным агентам изготавливать информационную продукцию для детей.
Далее, в соответствии с поправками в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»7 от 30 декабря 2020 г. за № 482-ФЗ стало возможным блокировать иностранные интернет-площадки в ответ на необоснованную цензуру. Наконец-то, Роскомнадзор получил доступ к интернет-ресурсам, которые нарушают информационные права граждан. Причина данных ответных мер – обращения редакций российских СМИ по вопросу цензуры их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок, необоснованно ограничивающих доступ граждан России к информации от российских средств массовой информации. Теперь закон дал возможность Роскомнадзору полностью или частично ограничивать доступ к таким иностранным интернет-ресурсам, которые, в свою очередь, не дают распространять общественно значимую информацию по языковому, национальному признакам и т. п. или в связи с введением санкций против РФ либо ее граждан.
Не впадая в конспирологию, тем не менее считаем неслучайным и своевременным принятие Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации»1. В данном законе определен комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от негативного воздействия опасных биологических факторов, предотвращение биологических угроз, создание и развитие системы мониторинга биологических рисков. Главными биоугрозами являются изменение свойств и форм патогенов, возникновение и распространение новых инфекций, проектирование и создание патогенов с помощью технологий синтетической биологии и др. Закон определяет меры борьбы с распространением инфекционных и паразитарных болезней, мониторинг биологических рисков, создание госинформсистемы по обеспечению биологической безопасности. На фоне неоднократных официальных заявлений Минобороны РФ о работе биолабораторий США на территории Украины, разрабатывавших немирные средства, данный закон направлен как раз на защиту населения нашей страны от всевозможных биологических угроз.
Федеральным законом от 24 февраля 2021 г. № 19-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-вонарушениях»2 новой статьей 19.7.10-3 введена административная ответственность в отношении владельцев информресурсов, которые причастны к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, – за неисполнение предупреждения об устранении ограничения распространения общественно значимой информации на территории Российской Федерации (в том числе сообщений и (или) материалов зарегистрированных средств массовой информации) по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отноше- нии Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц либо установлением владельцем ресурса в сети «Интернет» иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
Таким образом, государство / публичная власть противостоит проявлениям информационной войны против РФ, развязанной коллективным Западом в целях изолировать проявление любой информации, отличной от той, что они хотят видеть и слышать наши западные «партнеры». История с удивительной точностью повторяется. Поистине, «правду охраняют батальоны лжи», как говорил И. В. Сталин [13, с. 299].
Но бороться с этим необходимо. В частности, Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-ции»3 были внесены изменения в Законы о средствах массовой информации4, об инфор-мации5, которые теперь позволяют приостановить деятельность СМИ, признать недействительной регистрацию СМИ или аннулировать выданную лицензию на вещание по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей, если распространяется противоправная информация с призывами чинить массовые беспорядки, ввести антироссийские санкции, или информация, дискредитирующая Вооруженные Силы РФ; также появилась возможность постоянного ограничения доступа к информационным ресурсам при неоднократном размещении запрещенной информации. С такими требованиями Генпрокурор или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор, который, в свою очередь, уже обяжет операторов связи исключить доступ к такому информационному ресурсу, а также его копиям. Рос- комнадзор также обяжет запретить деятельность зарубежных СМИ в России, если иностранное государство примет подобные меры в отношении российских СМИ. Нам давно пора давать симметричные ответы на недружественные действия западных «партнеров».
Далее, Федеральным законом от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и статью 3.1 Федерального закона “О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации”»1 был дополнен список последствий от признания нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной неправительственной организации. Это также повлечет за собой запрет на участие граждан России, лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране, и российских юридических лиц в работе такой организации, находящейся за рубежом.
1 июля 2021 года и у Генеральной прокуратуры РФ появились важные полномочия в соответствии с Федеральным конституционным законом № 2-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О Конституционном Суде Российской Федерацииˮ»2. За Генеральной прокуратурой закреплено право обратиться в Конституционный Суд с запросом о возможности исполнять решение межгосударственного органа вследствие того, что в части, обязывающей Российскую Федерацию к принятию мер по его исполнению, данное решение основано на положениях международного договора в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции РФ, о чем мы говорили выше; о возможности исполнять решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Россию (если заявитель считает, что исполнение решения невозможно, поскольку оно противоречит основам публичного правопорядка РФ). Данные положения еще раз подтверждают тот факт, что Россия безоговорочно пошла по пути обеспечения своего суверенитета, не считая более себя связанной обязательствами, которые идут вразрез с ее национальными интересами, законными правами и интересами граждан России.
Продолжая тему национальных интересов, стоит отметить в настоящей хронологии Указ Президента РФ от 25 января 2023 г. № 35 «О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808»3. Глава государства скорректировал их соответственно требованиям времени и интересам граждан РФ. Так, уже не делается акцент на том, что Россия развивается как страна, объединяющая Восток и Запад. Введено понятие культурного суверенитета. Под ним понимается совокупность социально-культурных факторов, позволяющих народу и государству формировать свою идентичность, избегать социально-психологической и культурной зависимости от внешнего влияния, быть защищенными от деструктивного идеологического и информационного воздействия, сохранять историческую память, придерживаться традиционных духовнонравственных ценностей. Среди целей государственной политики также названы обеспечение культурного суверенитета России , повышение ее роли в мировом гуманитарном и культурном пространстве. Указ главы государства расширил и принципы культурной политики, поставив во главу угла защиту традиционных семейных ценностей, института брака как союза мужчины и женщины, приоритетность государственной поддержки культурной деятельности по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторической памяти и защиту исторической правды, контроль за деятельностью должностных лиц публичной власти , чтобы финансируемые мероприятия соответствовали целям, задачам и принципам государственной культурной политики.
Настоящий Указ не обошел вниманием и систему органов публичной власти, давая определение государственной культурной политики. Под ней подразумевается деятельность, которую осуществляют органы публичной власти с участием представителей гражданского общества. И направлена эта деятельность на поддержание, сохранение, развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельности наших граждан и формирование личности на основе традиционных ценностей. Соответственно, органы публичной власти являются субъектами культурной политики.
Придан особый статус и ставшей символом национального единения Георгиевской ленте Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. № 579-ФЗ «О Георгиевской ленте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1. Ее приравняли к символам воинской славы России. Органы публичной власти самостоятельно определяют способы использования Георгиевской ленты, в том числе ее изображения, исходя из необходимости обеспечения ее статуса, символизирующего воинскую славу России. Публичное осквернение Георгиевской ленты повлечет за собой уголовную или административную ответственность.
Заключение
В результате анализа нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы формирования единой системы публичной власти, за период 2020–2023 годов, в их взаимосвязи с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»2 представляется крайне важным указать на нижеследующее.
-
1. Конституция Российской Федерации и глава государства как ее гарант сегодня решают задачу безоговорочного обеспечения суверенитета страны в масштабах всего мира.
-
2. В сложившихся условиях в РФ, применительно к единой системе органов публичной
-
3. Необходимо придать нынешнему Госсовету РФ статус единого межотраслевого и межтерриториального органа (аналогично советскому Госплану), с поправками на изменившиеся экономические, технические и политические условия, о чем мы ранее писали [14, с. 109].
власти для органов местного самоуправления как неотъемлемого и базового элемента этой системы, наиболее целесообразной формой управления, по нашему мнению, было бы сочетание оперативного подчинения и соподчинения с сохранением конституционных гарантий самостоятельности, что обеспечит единство системы органов публичной власти.
Список литературы Формирование единой системы публичной власти в России как вектор новой конституционности
- Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации: учебник. М.: Зерцало-М, 2003. 608 с.
- Кожевников О. А., Костюков А. Н., Ларичев А. А. Единая система публичной власти: дискуссионные аспекты нормативной регламентации // Правоприменение. 2022. Т. 6. № 3. С.49-62.
- Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003. 585 с.
- Комарова В. В. Конституционная реформа 2020 г. в России (некоторые аспекты) // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 8. С. 22-31.
- Мархгейм М. В. Обновление Конституции России: институциональный эскиз // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2020. № 7 (122). С. 29-32.
- Мусинова Н. Н. Об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти // Вестник университета. 2022. № 2. С. 77-84.
- Попова О. В. Институционализация единой системы публичной власти в РФ на уровне городского управления и самоуправления // Социально-политические исследования. 2022. № 1 (14). С. 5-23.
- Современные проблемы организации публичной власти. Монография. М.: Юстицин-форм, 2014. 596 с.
- Уваров А. А. О расширительном значении президентских поправок к Конституции Российской Федерации // Lex russica (Русский закон). 2020. № 11. С. 43-52.
- Фастович Г. Г., Шитова Т. В. К вопросу об эффективности единой системы публичной власти // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2020. № 4. С. 76-88.
- Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2003. 574 с.
- Чихладзе Л. Т., Ганина О. Ю. Органы местного самоуправления в единой системе публичной власти России: вопросы теории и истории // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2021. Т, 25. № 4. С. 750-767.
- Чуев Ф. И. Молотов. Полудержавный властелин. М.: Олма-Пресс, 2000. 736 с.
- Щепетильников В. Н. О единой системе публичной власти в контексте конституционной реформы // Образование. Наука. Научные кадры. 2021. № 2. С. 105-109.
- Эбзеев Б. С. Конституция, власть и свобода в России: Опыт синтетического исследования. М.: Проспект, 2014. 336 с.
- Bardhan P. Decentralization of Governance and Development // Journal of Economic Perspectives. 2002. Issue 16 (4). Pp. 185-205. DOI: 10.1257/089533002320951037.
- Erlingsson G. O, Odalen J. A Normative Theory of Local Government: Connecting Individual Autonomy and Local Self-Determination with Democracy // Lex localis - Journal of Local Self-Government. 2017. Vol. 15. Issue 2. Рр. 329-342. DOI: 10.4335/15.2.329-342(2017).
- Russian Federation - Interim Opinion on Constitutional Amendments and the Procedure for Their Adoption Adopted by the Venice Commission at its 126th Plenary Session (Online, 19-20 March 2021). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/ documents/?pdf=CDL-AD(2021)005-e.
- Levinson D. J. Foreword: Looking for Power in Public Law // Harvard Law Review. 2016. Vol. 130. Issue 1. Pp. 31-143.
- Benedetti M. De. Public administration in Russian federation: Evolution and Perspectives. URL: https://www.amministrazioneincammino. luiss.it/2018/07/31/public-administration-in-russian-federation-evolution-and-perspectives/.
- Moran M., Rein M., Goodin R. E. (eds.) Public Policy. The Oxford Handbooks of Political Science. General Editor: Robert E. Goodin. Published in the United States by Oxford University Press Inc. New York, 2006. 996 p. (In Eng.).
- Persson G., Pallin Vendil C., Engqvist M. Ryssland andrar grundlagen—innehall och konsek-venser (Russia Amends the Constitution. Content and Consequences) // Swedish Defence Research Agency, FOI Memo 7091. 2020. 4 May. URL: https: //www.foi.se/en/foi/reports/report-summary. html?reportNo=FOI%20Memo%207091..
- Smith G. A. Public Duty and Private Power in Administrative Law // The University of Toronto Law Journal. 1990. Vol. 40. Issue 3. Pp. 412418. DOI: 10.2307/825817.
- Teague E. Russia's Constitutional Reforms of 2020 // Russian Politics. Vol. 5. Issue 3. Pp. 301-328. DOI: 10.30965/24518921-00503003.