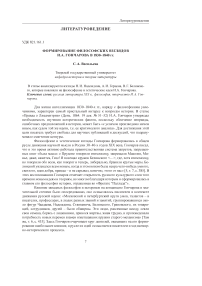Формирование философских взглядов И. А. Гончарова в 1830–1840 гг.
Автор: Васильева Светлана Анатольевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются взгляды Н. И. Надеждина, А. И. Герцена, В. Г. Белинского, которые повлияли на философские и эстетические идеи И.А. Гончарова.
Русская литература xix в, философия, творчество и. а. гончарова
Короткий адрес: https://sciup.org/146122086
IDR: 146122086 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Формирование философских взглядов И. А. Гончарова в 1830–1840 гг.
Для жизни интеллигенции 1830–1840-х гг., наряду с философскими увлечениями, характерен самый пристальный интерес к вопросам истории. В статье «Правда о Лжедмитрии» (День. 1864. 19 дек. № 51–52) И. А. Гончаров утверждал необходимость изучения исторических фактов, поскольку обличение неправды, ошибочных предположений в истории, может быть «с успехом производимо ничем иным, как судом той же науки, т.е. ее критического анализа». Для достижения этой цели писатель требует свободы для научных публикаций и дискуссий, что подразумевало смягчение цензуры.
Философские и эстетические взгляды Гончарова формировались в общем русле движения научной мысли в России 30–40-х годов ХIХ века. Гончаров писал, что в это время активно работала правительственная система запретов, запрещенных книг «была масса: о Прудоне говорили втихомолку, запрещали Маколея, Ми-нье, даже, кажется, Гизо! Я посещал кружок Белинского <…>, где, хотя втихомолку, но говорили обо всем, как говорят и теперь, либерально, бранили крутые меры. Белинский увлекался всем новым, когда в этом новом была искра чего-нибудь умного, светлого, идея добра, правды – и не скрывал, конечно, этого от нас» [5, т. 7, с. 385]. В этих воспоминаниях Гончаров отмечает открытость русского культурного слоя того времени новым идеям и теориям, во многом благодаря которым и сформировалась в главном его философия истории, отраженная во «Фрегате “Паллада”».
Влияние западных философов и историков на концепцию Гончарова в значительной степени было опосредованно, оно осмыслялось писателем в контексте движения русской науки: «Московский и петербургский круги умов, талантов – в писателях, профессорах, в людях разных званий и занятий, группировавшихся около фигур Чаадаева, Надеждина, Станкевича, Белинского, Грановского, их товарищей, сотрудников, друзей – были обширны. Эти люди, рассеянные всюду, сеяли свои семена, борясь с лишениями, принося жертвы, живя трудно, и проповедовали потребность новых перемен взамен изветшавших пружин старого механизма» [Там же, т. 6, с. 433]. Здесь Гончаров очерчивает круг деятелей, оказавших на его формирование наибольшее влияние, в русле их идей осмысляется писателем и ход всемирно-исторического процесса.
П. Я. Чаадаев стоит первым в ряду упомянутых Гончаровым. В 1830-е гг. он был уже вполне сформировавшимся философом: знаменитые «Философические письма» были закончены им в 1831 году. Перед философией истории Гончаров ставил задачу найти принцип единства истории человечества. Такой принцип, сформулированный в пятом письме, Чаадаев видел в единстве всего живого: едина не только природа, последовательная смена людей представляет собой одного человека, пребывающего вечно. И в теории наций Чаадаева заложена идея всечеловечества, он выдвигает необходимость тщательного изучения исторических эпох, беспристрастной характеристики каждого века.
На философском осмыслении истории строились эстетические и литературно-критические работы Н.И. Надеждина, который, по выражению Ю. В. Манна, был «весь в рамках исторической периодизации» [6, с. 19]. Надеждин считал, что предмет истории составляет жизнь рода человеческого в своем временном развитии, она должна быть биографией человечества. В истории человечества Надеждин видит общие непреложные законы, один неизменный порядок.
Одной из ключевых фигур в русской философии был Н. В. Станкевич. Он не создал крупных научных трудов, не стал талантливым писателем, однако это не помешало Тургеневу, Белинскому, Грановскому говорить о великом значении Станкевича для России и русской культуры. Кружок Станкевича, в который в разное время входили В. Г. Белинский, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Т. Н. Грановский, В. П. Боткин и другие крупнейшие представители русской науки и культуры, продолжал философскую традицию Н. И. Надеждина, В. Ф. Павлова, кружка любомудров (Д. В. Веневитинов, В. Ф. Одоевский). Здесь активно изучались Шеллинг, Кант, Фихте, позднее, к концу 1836 г., начинается увлечение Гегелем.
Характерно, что Гончаров, называя «московский и петербургский круги умов и талантов», выделяет лишь лиц, близких по взглядам Н.В. Станкевичу, не упоминая другой крупный идеологический и философский центр того времени – кружок А.И. Герцена. Рассматривая соотношение между этими двумя кружками в «Былом и думах», Герцен говорит о том, что интересы их были слишком различны: «В тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтоб не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокоивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством» [2 с. 120]. Интересы Герцена были бесконечно далеки от Гончарова; позднее Гончаров называл их псевдолиберализмом, который, не ставя перед собой никаких конкретных задач, «мчится мало-помалу к той бездне <…>, от которой, умирая, отвернулся и Герцен и куда отчаянно бросился маниак Бакунин» [5, т. 7, с. 108]. Личность и мировоззрение М. А. Бакунина в тридцатые– начале сороковых годов оказали огромное влияние на формирование взглядов Станкевича, Белинского, Боткина и др. (отметим, что именно он являлся вдохновителем изучения произведений различных философских школ, в том числе и Гегеля), но в конце 1840-х гг. оно ослабляется. Отрицательное отношение Гончарова к Бакунину объясняется, очевидно, тем, что Бакунин был одним из организаторов Дрезденского восстания в 1849 г., а позднее стал руководителем движения анархистов (подробнее о роли Бакунина в кружке Станкевича см.: [3, с. 45–64, 84–93]). Несмотря на различные политические взгляды, Герцен и Гончаров проходят в 1830-х гг. через увлечение историзмом (о влиянии мировоззрения Герцена на Гончарова подробнее см.: [7, с. 5–6; 8, с. 35]). Надо отметить, что вообще Гончаров «…сторонился кружков, тех по крайней мере, которые особенно шумели в начале тридцатых годов. В университете он застал еще Герцена и Огарева, товарищей Станкевича, но ни с кем из них он не был даже знаком», однако «умственное движение или, лучше сказать, возбуждение не могло не коснуться его» [9, с. 15].
В области философии истории молодежь 1830-х гг. сталкивалась с двумя основными направлениями. Романтическая философия истории, опиравшаяся на немецкую идеалистическую философию, рассматривала исторический процесс как самоцельную деятельность «абсолютного я» (И. Г. Фихте), «постепенное откровение абсолютного» (Ф. В. И. Шеллинг). Другое направление – системы, оперировавшие просветительски понимаемым прогрессом идей, мнений и в то же время некоторыми натуральными и социальными факторами. Кружок Станкевича, отталкиваясь от Фихте и Шеллинга, в середине 1830-х гг. начинает увлекаться учением Г. В. Ф. Гегеля, которое и дает толчок их философским и историческим взглядам (подробнее о проблемах историзма эпохи 1830–х гг. см.: [4, с. 15–25]).
Молодой Герцен «проявлял интерес к просветительской традиции в историографии; к тем системам, которые оперировали факторами климата, почвы, плотности народонаселения, нравов, обычаев и пр. В первую очередь это относится к пониманию роли действовавших в истории народов. В первых же строках своей первой философской работы “О месте человека в природе” (1832) Герцен упоминает имя Гедрера. И в гердеровской системе развития народов и чередования их на историческом поприще <…> огромную роль играют географические условия и другие натуральные факторы» [Там же, с. 326]. Белинский в целом осторожно относился к этому вопросу и предостерегал от крайностей при его решении: «Действия климата как на телесные, так и на душевные, тесно с ними соединенные способности, совершенно отвергать нельзя. Многие факты доказывают его власть <…>. Но при оценке и разборе климатного влияния не должно упускать из виду главного обстоятельства – противодействия человека, существа мыслящего, немыслящим силам природы» [1, т. 3, с. 197].
В работах теоретиков западничества – Станкевича, Герцена, Белинского и других – представлен европеистский подход к судьбам российской истории. История, по мнению Герцена, отличается от природы присутствием постоянно эволюционирующей человеческой мысли. Каждый из моментов истории обладает самодостаточностью, которой и нужно наслаждаться. В отношении Европы Герцен выдвигает тезис о свободе как величайшем достижении европейской цивилизации, но не одобряет рациональности, мещанства, усредненности европейцев. Герцен пытается найти почву для прививки ростка свободы в границах российских традиций, отметая все губительные европейские наслоения. Иначе представлял себе историю России Надеждин, выступавший за максимальное развитие самобытного, национального начала русской культуры и общественной жизни. Но в то же время он мыслит его как продолжение мирового исторического процесса, как его закономерный этап. На языке критика это означало примирение «чужеядства» с «народностью» [6, с. 34]. По мнению Белинского, требовавшего взаимодействия между народами, каждый народ все-таки выражает своей жизнью одну какую-нибудь сторону жизни всего человечества, и лишь идя разными дорогами, человечество может достигнуть своей единой цели.
Взгляды Гончарова на философию истории, формировавшиеся в 1830-1840-е гг., безусловно, близки построениям Надеждина, Герцена, Белинского. Они сложились в оригинальную концепцию всемирно-исторического развития, которая нашла свое выражение в творчестве писателя и наиболее полно отразилась в очерках путешествия «Фрегат “Паллада”».
Список литературы Формирование философских взглядов И. А. Гончарова в 1830–1840 гг.
- Белинский В. Г. Полное собр. соч.: в 13 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953-1959.
- Герцен А. И. Собр. соч.:в 8 т. М.: Правда, 1975.
- Гинзбург Л. О психологической прозе. Л.: Худож. лит., 1977. 450 с.
- Гинзбург Л. Я. «Былое и думы» Герцена. М.: Гослитиздат, 1957. 374 с.
- Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. М.: Худож. лит., 1977-1980.
- Манн Ю. Факультеты Надеждина//Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М.: Худож. лит., 1972. С. 3-44.
- Пиксанов Н. К. Мастер критического реализма И. А. Гончаров: Стенограмма публичной лекции. Л.: Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний РСФСР, 1952. 24 с.
- Пиксанов Н. К. Роман Гончарова «Обрыв» в свете социальной истории. Л.: Наука, 1968. 202 с.
- Соловьев Е. А. Гончаров И. А.: Его жизнь и литературная деятельность. СПб.: Тип. и хромолит. П. П. Сойкина, 1895. 80 с.