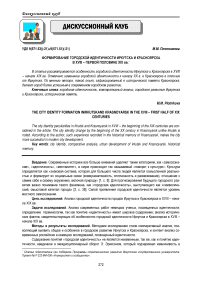Формирование городской идентичности Иркутска и Красноярска в XVIII - первой половине XIX вв.
Автор: Плотникова М.М.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Дискуссионный клуб
Статья в выпуске: 9, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности городской идентичности Иркутска и Красноярска в XVIII - начале XIX вв. Отмечено изменение городской идентичности к началу XX в. в Красноярске в отличие от Иркутска. По мнению автора, такой опыт, зафиксированный в исторической памяти Красноярска, делает город более успешным в современном городском развитии.
Городская идентичность, компаративный анализ, городское развитие иркутска и красноярска, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/14083928
IDR: 14083928 | УДК: 9(571.53)(-21)+9(571.51)(-21)
Текст научной статьи Формирование городской идентичности Иркутска и Красноярска в XVIII - первой половине XIX вв.
Содержание понятия «городская идентичность» не является неизменным, так же, как и понятие идентичности, введенное в междисциплинарный оборот Э. Эриксоном, который подчеркивал изменчивость в процессе развития личности. М.Л. Магидович отмечает, что понятие «идентичность» имеет широкое содержание в современной русскоязычной научной литературе и может быть определено как «совокупность характеристик, внутренне присущих субъекту (личности, сообществу или явлению) и позволяющих выделить его из числа других, близких по характеристикам, субъектов» [3, с. 26]. Этим определением мы и будем пользоваться в своей работе. Отметим также, что оно как нельзя лучше подходит для компаративного анализа, поскольку внутри самого понятия «идентичность» заложено выделение отличительных черт, что является одной из составляющих компаративного анализа.
Одним из источников, дающим представление о городской идентичности в XVIII в., являются городские наказы 1767 г., написанные для Екатерининской комиссии. Они отражают особенности городского развития Иркутска и Красноярска. «Часть красноярского купечества проживала не в городе, а на заимках, находящихся в 50 и более верстах от города, занималась хлебопашеством для собственного пропитания» [4, с. 344]. То есть часть красноярского купечества была частично горожанами, частично сельскими жителями. Иркутское же купечество жаловалось на приезжающих иногородних купцов и людей других чинов, которые розничной продажей чинили им разорение. «Некоторые же из приезжающих иногородних купцов и крестьян имели в Иркутске собственные дома, кожевенные и мыльные заводы и построенные к перевозке за Байкал-море всякой клади собственные суда, чего иметь им не должно, ибо они по здешнему месту никаких податей не платят и служб не служат» [5, с. 391]. Таким образом, Иркутск уже в середине XVIII в. был местом, удобным для коммуникации, за которое конкурировали не только иркутяне, но и купцы из других городов.
В основе городской идентичности лежит «чувство места». Подчеркнем, что и в Иркутске, и в Красноярске оформилось «чувство места». В Красноярске «загадочная красота Енисея и окружающей его природы давала красноярцам какую-то особую энергетику» [6, с. 7]. Уже в 1831 г. статский советник И.С. Пестов писал, что «иностранные путешественники называют Красноярск прелестной Швейцарией» [7, с. 33]. Красоту окрестностей Красноярска отмечали и делавший статистическое обозрение Сибири Ю.А. Гагемейстер и Н.В. Турчанинов, писавший о городах Азиатской России. Иркутск обладал удачным географическим расположением, позволившим ему стать узлом коммуникаций. М.В. Загоскин в 1870 г. писал: «В торговом отношении Иркутск стоит на весьма выгодном месте. Через него проходят все товары, развозимые по Восточной Сибири, за Байкал и на Лену» [8, с. 15]. Также им было отмечено, что Иркутск стал первым городом в Восточной Сибири – складским пунктом для всех товаров, привозимых из России и отправлявшихся туда. Н.В. Турчанинов подчеркивал, что «солиден вид города (Иркутска. – М.П.) потому, что он хорошо торгует, а вовсе не потому, что представляет центр административного управления Восточной Сибирью» [9, с. 291]. Таким образом, узел коммуникаций сформировал в Иркутске «торговый дух».
Городская идентичность может быть также рассмотрена как локальная идентичность и как один из видов коллективной идентичности. Урбанист И.О. Вендина выделяет два подхода к изучению городской идентичности: подход с позиций уникальности места и чувства малой родины и подход с позиций гражданских ценностей. Во втором случае «городская идентичность интерпретируется как осознание личной ответственности за судьбы города и становится способом солидаризации городского сообщества в решении общих проблем совместной жизни, обустройства городской среды, экологии, охраны наследия, социальной справедливости» [10, с. 30]. Автор настоящей работы будет пользоваться вторым подходом к городской идентичности. В этом же ключе рассматривает коллективную идентичность и немецкий исследователь Ганс-Георг Велинг, который ссылается на политические границы в качестве «точки отсчета для принадлежности коллективной идентичности, в которых действует формирующая сила социальных агентов и социальных процессов» [11, с. 23].
В данном случае мы обращаем внимание на исторические события, связанные с взаимодействием власти и местных сообществ в XVIII – начале XIX вв. в Иркутске и Красноярске. Наиболее ярко городскую идентичность характеризуют события, отражающие противостояние власти и городского общества. При этом следует подчеркнуть, что в г. Красноярске это противостояние казаков и воеводского правления 1695–1698 гг., известное как «Красноярская шатость», в г. Иркутске – противостояние купечества и сибирского генерал-губернатора И.Б. Пестеля и иркутского гражданского губернатора Н.И. Трескина в начале XIX в., широко описанное в научной литературе. Следует отметить, что оба случая завершились победой местного городского сообщества. Таким образом, в Красноярске казаки являлись одним из ведущих городских сообществ, носителем коллективной идентичности, в Иркутске – купцы. Это коррелирует и с функциями сибирских городов. Д.Я. Резун отмечает, что «на первых порах все сибирские города имели военно-политическое значение» и «на всем протяжении их истории носили ярко выраженный торговый характер» [12]. Яркими вы- разителями городской идентичности в Красноярске было казачество, в Иркутске – купечество. Роль казаков в городском развитии Красноярска сохранялась и в первой четверти XIX в. Из отчета енисейского гражданского губернатора 1829 г. следует, что полиция не была сформирована на городские доходы в Красноярске по указу Павла I в 1797 г., а полицейские обязанности выполнялись общественниками по очереди. Богатые за себя нанимали, бедные исполняли натурою по очереди. «Общественные полицейские служители занимали места пожарных рабочих, десятских и будочников, которых в Красноярске было 23 чел.
Под начальством городничего находились 10 казаков городового Енисейского казачьего полка с урядником, которые объезжали по ночам город, употреблялись по разным полицейским поручениям и сменялись через неделю» [13, л. 4 об. 5]. Для выполнения вышеупомянутого императорского указа Иркутск использовал свой потенциал важнейшего коммуникационного узла Восточной Сибири. Для содержания полиции был введен повозный сбор, собиравшийся с купеческих возов с товарами, проходящих через Московский, Якутский, Заморский и Кругоморский тракты, расходившиеся из Иркутска. В 1819 г. повозный сбор составил 16 073 руб. [14, л. 12 об.]. Подчеркнем, что в Иркутске, в отличие от Красноярска, казаки стали конкурировать с купцами в судовом промысле на Байкале.
Сибирский общественный деятель Г.Н. Потанин в своей знаменитой работе «Города Сибири» в начале XX в. обращает внимание, что приезжавшие на службу после 1822 г. чиновники и поселившиеся в Красноярске золотопромышленники определили физиономию города. В Иркутске же «служили выдающиеся генерал-губернаторы, их чиновники, иногда с университетским образованием, отбывали ссылку декабристы и интеллигенты. Все это содействовало культурной шлифовке иркутского купечества» [15]. Таким образом, в Красноярске одними из главных выразителей городской идентичности стали чиновники и золотопромышленники, а в Иркутске такой группой было купечество, которое, благодаря чиновникам, декабристам и ссыльным интеллигентам, подверглось «культурной шлифовке», т.е. приобрело другие качественные характеристики.
Заключение . Ранее в своем предыдущем компаративном анализе городского развития Иркутска и Красноярска мы отмечали, что «быстрее и эффективнее развивается тот город, у которого исторические векторы совпадают с современными перспективами городского развития» [16, с. 183]. После исследования феномена «городской идентичности» к этому можно добавить, что Красноярск больше приспособлен к изменениям, чем Иркутск, благодаря исторической памяти, в которой зафиксировалась смена одной ведущей группы городского сообщества на другую. Изменились функции города, активизировалось его развитие. Расширилась коммуникативная и социальная практика, а местное самосознание стало более гибким. Немецкая исследовательница Сильвия Грайфенхаген считает, «что коллективная идентичность относится не только к прошлому и современности, но также и к будущему. К прошлому относятся формы коллективной памяти. Коллективная идентичность обеспечивает настоящее рамками ориентирования для текущего восприятия и упорядочивание информации» [17, с. 364]. Таким образом, городская идентичность Красноярска, выступающая как одна из форм исторической памяти, помогает городу лучше адаптироваться к современным вызовам, благодаря историческому опыту городского развития.