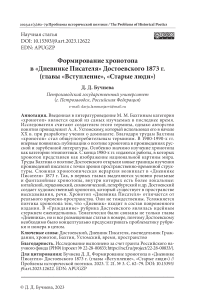Формирование хронотопа в «Дневнике писателя» Достоевского 1873 г. (главы «Вступление», «Старые люди»)
Автор: Бучнева Д.Д.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введенная в литературоведение М. М. Бахтиным категория «хронотоп» является одной из самых изучаемых в последнее время. Исследователя считают создателем этого термина, однако авторство понятия принадлежит А. А. Ухтомскому, который использовал его в начале XX в. при разработке учения о доминанте. Благодаря трудам Бахтина «хронотоп» стал общеупотребительным термином. В 1980-1990-е гг. впервые появились публикации о поэтике хронотопа в произведениях русской и зарубежной литературы. Особенно значимо изучение хронотопа как категории этнопоэтики. С конца 1980-х гг. издаются работы, в которых хронотоп представлен как изображение национальной картины мира. Исследования Бахтина поэтики Достоевского открыли новые границы изучения произведений писателя с точки зрения пространственно-временной структуры. Сложная хронотопическая иерархия возникает в «Дневнике Писателя» 1873 г. Так, в первых главах выделяются условно реальные и фантазийные хронотопы, внутри которых есть более локальные: китайский, герценовский, символический, петербургский и др. Достоевский создает художественный хронотоп, который существует в пространстве высказывания, речи. Хронотоп «Дневника Писателя» отличается от реального времени-пространства. Они не тождественны. Усложняется поэтика хронотопа тем, что «Дневник» входит в состав повременного издания. В «Гражданине» рубрика Достоевского являлась идейным стержнем еженедельника. Тематически были связаны не только главы «Дневника», но и все размещенные статьи в номере, поэтому Достоевскому необходимо было концептуально предусматривать проблематику рубрики и номера в целом.
Достоевский, дневник писателя, еженедельник гражданин, хронотоп, бахтин, ухтомский, время, пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/147241446
IDR: 147241446 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12622
Текст научной статьи Формирование хронотопа в «Дневнике писателя» Достоевского 1873 г. (главы «Вступление», «Старые люди»)
Acknowledgments. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 22-28-00833, https://rscf.ru/project/22-28-00833/ . For citation: Buchneva D. D. Formation of the Chronotope in the “A Writer’s Diary” by Dostoevsky in 1873 (Chapters “Introduction”, “Old People”). In: Problemy istoricheskoy poetiki [ The Problems of Historical Poetics ], 2023, vol. 21, no. 3, pp. 62–79. DOI: 10.15393/j9.art.2023.12622. EDN: APUGZP (In Russ.)
О категории «хронотоп» сложилось много суждений, связанных как с происхождением самого понятия, так и с его значением. Факт того, что категорией поэтики хронотоп стал благодаря работам М. М. Бахтина, является неоспоримым. Зачастую имя Бахтина стоит первым в ряду тех, кто использовал этот термин, раскрыл его функционирование.
В толковых словарях английского, немецкого, французского языков отсутствует понятие «хронотоп». Однако на многоязычном ресурсе «Википедия», в немецко-, франко-, англо-, чешкоязычных и др. версиях этой энциклопедии, Бахтин значится автором понятия не только в теории литературы, но и в науке вообще. Это не так. Как известно, сам Бахтин в работе «Вопросы литературы и эстетики», опубликованной в 1975 г., указал происхождение понятия «хронотоп»:
«Термин этот употребляется в математическом естествознании и был введен и обоснован 1 на почве теории относительности (Эйнштейна)» [Бахтин, 1975: 234].
Прослушанный в 1925 г. Бахтиным доклад А. А. Ухтомского, который был посвящен положительному значению идей Г. Минковского и А. Эйнштейна о времени и пространстве на развитие теоретической нейрофизиологии и биологии, навел его на мысль о необходимости категории «хронотоп» в литературоведении — в частности, в теории романа.
Доказательства использования термина «хронотоп» Эйнштейном отсутствуют. В его тезаурусе не было этого понятия. Теория относительности позволила посмотреть на время и пространство под другим углом, так как в классическом механизме эти понятия изучались как «два отдельных феномена» [Политов: 51]. Исследования Эйнштейна показали, что эти категории неразрывны. Так, немецкий физик пришел к выводу, что «окружающий нас мир представляет собой четырехмерный пространственно-временной континуум» [Эйнштейн: 558]. Таким образом, считая Эйнштейна автором понятия «хронотоп», Бахтин субъективно прав, поскольку смог осмыслить и оценить перспективность идеи физика. Исследователь ориентировался на доклад Ухтомского, от которого услышал о теории Эйнштейна. Однако авторство понятия принадлежит А. А. Ухтомскому и отсылает к 20-м гг. XX в. Термин был использован при разработке учения о доминанте — «господствующем очаге возбуждения, предопределяющем в значительной степени характер текущих реакций центров в данный момент» [Ухтомский: 39]. Сохранились фрагменты доклада «О временно-пространственном комплексе, или хронотопе», где Ухтомский отмечал, что «расстояние в пространстве до предмета первоначально спаяно со временем, строится по времени и никогда от времени не освобождается. Оценка ее проверяется контактно во времени» [Ухтомский: 68]. Кроме того, физиолог обнаруживал «зависимость предполагаемых расстояний от предполагаемых времен» [Ухтомский: 69], а также утверждал:
«Мы живем в хронотопе. Законы его инвариантны лишь при условии, что существует максимальная скорость распространения влияний = скорость света. Если вообще существует безотносительная, инвариантная величина, то это интервал в хронотопе, интервал между событиями » [Ухтомский: 70].
В идеях Ухтомского хронотоп приобретает важную для понимания сущности явления черту. Категория рассматривается не только с точки зрения взаимосвязи времени и пространства, но и с позиции влияния ее составляющих друг на друга, включения одного феномена в другой, то есть времени в пространство и пространства во время. Тем не менее хронотоп не стал ключевым термином Ухтомского.
Понятие получило мировую известность благодаря трудам М. М. Бахтина. Исследователь рассмотрел термин как «формально-содержательную категорию литературы» [Бахтин, 1975: 235], выделив частные хронотопы (дорога, встреча, порог, площадь и др.) и более общие (авантюрный, пастушеско-идиллический и т. д.) [Бахтин, 1975: 234–261]. В 1980-х гг., после публикации работы М. М. Бахтина, началось активное изучение категории «хронотоп». Понятие осмыслялось в работах В. Н. Топорова. Так, изучая соотношение пространства и текста, исследователь обратился к мифопоэтическому хронотопу, отметив, что в нем «время сгущается и становится формой пространства, <…> его новым ("четвертым") измерением»
[Топоров: 232]. Топоров продолжил идеи Бахтина, однако полемизировал с ним о доминирующем начале в хронотопе. Для Бахтина «ведущим началом хронотопа» выступало время [Бахтин, 1975: 236]. Топоров же отдавал предпочтение пространству:
«…текст пространствен (т. е. он обладает признаком пространственности, размещается в "реальном" пространстве, как это свойственно большинству сообщений, составляющих основной фонд человеческой культуры) и пространство есть текст (т. е. пространство как таковое может быть понято как сообщение)» [Торопов: 227].
Такой же точки зрения придерживался и Ю. М. Лотман: «…временное ́ моделирование часто представляет собой вторичную надстройку над пространственным языком» [Лотман: 293].
В 1980-1990-е гг. появляются публикации о поэтике хронотопа в произведениях русской и зарубежной литературы ([Бахтин, 1975], [Топоров], [Захаров, 1985], [Лотман], [Фирсова]2, [Кубасов], [Головко], [Ляпаева], [Куплевацкая] и др.). Актуальность изучения хронотопа обусловила создание в 1992 г. научного журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп»3, включившего исследования биографии Бахтина и его теоретического наследия.
Особенно значимо изучение хронотопа как категории этнопоэтики (см. об этом: [Захаров, 2020]). Так, за последние десятилетия опубликованы работы, в которых хронотоп представлен как изображение национальной картины мира [Захаров, 1985, 1994ab, 2011, 2012, 2013], [Юрьева], [Фаликова] и др. Кроме того, в русской словесности существуют рождественский и пасхальный хронотопы, которые формируют жанры рождественских и пасхальных рассказов и повестей [Захаров, 2011: 31], [Захаров, 1994ab, 2012], [Летаева], [Есаулов], [Федорова] и др.
Труды М. М. Бахтина о поэтике Достоевского [Бахтин, 2000, 2002], его идеи использования категории «хронотоп» в литературоведении открыли новые границы изучения произведений писателя с точки зрения пространственно-временной структуры ([Захаров, 1985, 2011, 2012, 2013], [Куплевацкая], [Денисова], [Федорова] и т. д.). Однако до сих пор не было специальных исследований, посвященных поэтике хронотопа в «Дневнике Писателя» Достоевского 1873 г.
В 1873 г. Достоевский вошел в число сотрудников еженедельника «Гражданин», издаваемого с 1872 г. князем В. П. Мещерским. По воспоминаниям Н. Н. Страхова, Достоевский впопыхах принял решение стать редактором «Гражданина», а на эту мысль его подтолкнул А. Майков4. Жена писателя А. Г. Достоевская отмечала, что Мещерский предложил Достоевскому это место, и писатель согласился на уговоры «симпатичных ему лиц»5. Вполне вероятно, что Майков и был тем «симпатичным лицом», о котором писала Анна Григорьевна. Еще во время пребывания за рубежом у Достоевского возникала мысль об издании «Дневника Писателя», но эта задача на 1872 год была непосильная, поэтому по завершении большой работы над романом «Бесы» Достоевский «колебался», не мог решить, чем заниматься в ближайшее время. Ему нужна была пауза от писательского дела. Начинать новое издание было пока опасно: семья Достоевских находилась в трудном финансовом положении. Анна Григорьевна признавалась: «…для нас (Ф. М. и А. Г. Достоевских. — Д. Б .) составляло загадку — велик ли будет успех журнала…»6. Близкое к редакции окружение, в числе которого были А. Н. Майков, Н. Н. Страхов, Т. И. Филиппов, К. П. Победоносцев и др., Достоевскому симпатизировало. Работа редактором «Гражданина» позволяла иметь постоянный доход, а также реализовать «Дневник Писателя» хотя бы в качестве руб рики издания7.
Как заметил М. М. Бахтин, жанр определяется хронотопом [Бахтин, 1975: 235]. Эти категории неразрывно связаны, поэтому обратимся к жанровой природе «Дневника Писателя» Достоевского.
Так, И. Л. Волгин считает, что под заглавием «Дневник Писателя» выходило несколько разных «произведений»:
«1. Заметки, публиковавшиеся в качестве отдельной рубрики в журнале «Гражданин» (1873 г.); 2. Самостоятельное ежемесячное издание 1876–1877 гг.; 3. Единственный выпуск (август) за 1880 г.; 4. Возобновлённое периодическое издание 1881 г.» [Волгин: 12].
Исследователь не обнаруживает целостности «Дневника» 1873 г., характеризуя его как совокупность заметок. Такой же точки зрения придерживался В. А. Туниманов, рассматривая «Дневник» как «серию еженедельных фельетонов, довольно слабо связанных между собой тематически и весьма различных в жанровом отношении» [Туниманов: 165–166]. Напротив же, В. Н. Захаров полагает, что «Дневник» 1873 г. — это «"сочинение", в котором между статьями более очевидная идеологическая и художественная связь, чем в позднем "Дневнике"» [Захаров, 1985: 193]. Кроме того, исследователь отмечает, что следует различать «Дневник Писателя» как жанр и как тип издания. Так, жанр возник в 1873 г. на страницах «Гражданина», тип — в 1876 г., когда Достоевский объявил издание «Дневника» по подписке [Захаров, 1985: 191]. Это концептуально важно, поскольку в 1876 г. «изменился тип издания, но не литературный жанр» [Захаров, 1985: 199]. Включение в поздний «Дневник» новых тем, усложнение композиции — это развитие жанра, но не его изменение [Захаров, 1985: 199]. Приступая к работе, Достоевский продумал тематически свой «Дневник»8. Замысел не был осуществлен в полной мере, поскольку совмещать редакторскую и писательскую деятельность оказалось довольно трудно, учитывая то, что «Гражданин» выходил еженедельно. Внутри «Дневника Писателя» 1873 г. действительно синтезировались различные жанры: такие, как мемуары, политические статьи, рецензии, «картинки» и др. Однако все они были объединены логически, Достоевский ставил нумерацию глав, придавая целостность «Дневнику». Отсутствие четкой композиции объясняется дневниковой формой.
В первой главе «Дневника Писателя» 1873 г. Достоевский следующим образом раскрыл свой замысел:
« Но буду и я говорить самъ съ собой и для собственнаго удовольствiя, въ формѣ этого дневника , а тамъ что-бы ни вышло. Объ чемъ говорить? Обо всемъ что поразитъ меня или заста-витъ задуматься . Если же найду читателя и, Боже сохрани, оппонента, то понимаю что надо умѣть разговаривать и знать съ кѣмъ и какъ говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у насъ это всего труднѣе, т. е. въ литературѣ»9.
Такую же характеристику своего издания Достоевский дал в «Объявлении о подписке на "Дневник Писателя" 1876 года»:
«Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном »10.
«Дневник Писателя» диалогичен. Достоевский откровенен с читателями. Он видел свой «Дневник» как целостное художественное сочинение. Этот уникальный феномен мировой литературы и журналистики, который стоит вне традиционной системы жанров, сформировался уже в 1873 г.
В первом номере «Гражданина» было опубликовано сразу две главы «Дневника Писателя»: «Вступление» и «Старые люди». Начинает Достоевский свои размышления с конкретной даты: «Двадцатаго декабря я узналъ что уже все рѣшено, и что я редакторъ "Гражданина"» (Гр, 1: 14). Вступление в должность вызвало у писателя ассоциацию с бракосочетанием китайского императора, о котором он читал статью в «Московских Ведомостях». Появляется пересечение петербургского и китайского хронотопов. Достоевский переносит себя и Мещерского в Китай, воображая все этапы издания «Гражданина» в восточном государстве. Так, они бы появились в «назначенный день» (Гр, 1: 14) в главном управлении по делам печати, помощник секретаря, держа в руках диплом о назначении Достоевского, произнес бы «внушительнымъ, но ласковымъ голосомъ опредѣленное церемонiями наставле-нiе» (Гр, 1: 14), завершив «прекрасными словами» (Гр, 1: 14): «Иди, редакторъ, отнынѣ ты можешь ѣсть рисъ и пить чай съ новымъ спокойствiемъ твоей совѣсти» (Гр, 1: 14) — и вручив диплом, «напечатанный на красномъ атласѣ золотыми литерами» (Гр, 1: 14). В воображении Достоевского возникает своеобразный фантастический хронотоп. Писатель иронически размышляет об издании «Гражданина» в Китае:
«Подозрѣваю однако, что въ Китаѣ князь Мещерскiй не-премѣнно бы со мною схитрилъ, пригласивъ меня въ редакторы наиболѣе съ тою цѣлью, чтобъ я замѣнялъ его лицо въ глав-номъ управленiи по дѣламъ печати каждый разъ, когда бы его приглашали туда получать удары по пятамъ бамбуковыми дощечками. Но я перехитрилъ бы его: я бы тотчасъ пересталъ печатать "Бисмарка", самъ же, напротивъ, сталъ отлично писать статьи, — такъ что къ бамбуку призывали бы меня всего лишь черезъ нумеръ. За то я бы выучился писать» ( Гр , 1: 14).
Кроме того, появляется сопоставление «Китай — Россия», «там» — «здесь». Достоевский замечает, что в Китае он бы «отлично писалъ» ( Гр , 1: 14), в России — «гораздо труднѣе» ( Гр , 1: 14). Связано это, прежде всего, с тем, что «тамъ все предусмотрѣно и все разсчитано на тысячу лѣтъ; здѣсь же все вверхъ дномъ на тысячу лѣтъ. Тамъ я даже по неволѣ писалъ бы понятно; такъ что не знаю кто бы меня сталъ и читать. Здѣсь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднѣе писать непонятно» ( Гр , 1: 14).
Во «Вступлении» «Дневника» возникает полемика. «У насъ говорить съ другими — наука» (Гр, 1: 14), — пишет Достоевский. Критикует редактор и нигилистическую философию, считая, что фраза «я ничего не понимаю» приносит в нынешнее время «великую честь» (Гр, 1: 14), а ранее характеризовала глупого человека. Внутри размышлений Достоевского формируется свой хронотоп, который позволяет переносить события в российское, а также китайское пространство разных лет. Писатель переходит от масштабного сопоставления России и Китая к более локальному: Россия новая и Россия старая. Внутри сложной структуры «Вступления» появляется еще один эпизод — басня про свинью и льва, где Достоевский высмеивает оппонентов «Гражданина»:
«Конечно, львовъ у насъ нѣтъ, — не по климату, да и слишкомъ величественно. Но поставьте вмѣсто льва порядочнаго человѣка, какимъ каждый обязанъ быть, и нравоученiе выйдетъ тоже самое» ( Гр , 1: 15).
В басне можно выделить абстрактный, условный хронотоп. Достоевский вспоминает разговор с Герценом, который описал ему беседу с Белинским. Таким образом, можно сделать вывод, что хронотоп этой встречи — Петербург 1840-х гг. Однако важно подчеркнуть, что это воспоминание Достоевского . Кажется, что время и пространство реально, однако это ошибочное суждение. У Достоевского выделяются внутри первой главы несколько хронотопов, которые формируют общий — художественный — хронотоп.
Вторая глава «Старые люди» начинается с воспоминания Достоевского о его литературном дебюте. В «Дневнике» продолжается обсуждение двух портретов: Белинского, которого Достоевский характеризует как «беззавѣтно восторженную» личность, и Герцена — «типъ явившiйся только въ Россiи и который нигдѣ кромѣ Россiи не могъ явиться», он социалист, который должен был стать им «безо всякой нужды и цѣли, а изъ одного только "логическаго теченiя идей" и отъ сердечной пустоты на родинѣ» ( Гр , 2: 15). Ключевыми концептами повествования у Достоевского становятся «народ», «русская почва» и «русская правда»:
«Въ полтораста лѣтъ предыдущей жизни русскаго барства, за весьма малыми исключенiями, истлѣли послѣднiе корни, расшатались послѣднiя связи его съ русской почвой и съ русской правдой» ( Гр , 2: 15).
Внутри главы формируется «герценовский» хронотоп, который объединяет «исторический тип», определенное время, пространство, взгляды, позиции, мысли, идеи и связан с человеком в истории. Для Достоевского Герцен — хронотопический образ, ему предназначалось историей показать разрыв с народом
«огромнаго большинства образованнаго нашего сословiя» ( Гр , 2: 15). Автор «Дневника» отмечает, что Герцен видит в «идеальном народе» «парижскую чернь девяносто третья-го года» ( Гр , 2: 15). Отсылка к французской революции формирует исторический хронотоп. Возникает оценка русской и европейской истории. Белинского, по воспоминаниям, Достоевский застал страстным социалистом и атеистом. Писатель очень откровенно характеризует критика:
«Выше всего цѣня разумъ, науку и реализмъ, онъ въ тоже время понималъ глубже всѣхъ, что одни: разумъ, наука и реа-лизмъ могутъ создать лишь муравейникъ, а не соцiальную «гармонiю», въ которой бы можно было ужиться человѣку. Онъ зналъ, что основа всему — начала нравственныя» ( Гр , 2: 16).
Однако как социалисту Белинскому пришлось низложить христианство. Достоевский вновь обращается к воспоминаниям, размышляя об одной встрече в Петербурге с Белинским и молодым литератором — вероятно, В. П. Боткиным11. Белинский яростно заявлял Достоевскому:
«Христосъ, если бы родился въ наше время, былъ бы самымъ незамѣтнымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ; такъ и стушевался бы при нынѣшней наукѣ и при нынѣшнихъ двигателяхъ чело-вѣчества» ( Гр , 2: 16).
Подхватив слова друга, Боткин сказал, что Христос примкнул бы к социализму. Белинский был верен своей идее — именно на эту черту критика автор «Дневника» и призывал обратить внимание своих читателей. Достоевский припомнил еще одну встречу с Белинским, уточнив время и место:
«Разъ я встрѣтилъ его утромъ, часа въ три по полудни, у Знаменской церкви» ( Гр , 2: 16).
Критик обращается к будущему, которое символически выражалось в строительстве железной дороги:
«Я сюда часто захожу взглянуть какъ идетъ постройка (вокзала Николаевской желѣзной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тѣмъ с ердце отведу, что постою и посмотрю на работу:
наконецъ-то и у насъ будетъ хоть одна желѣзная дорога. Вы не повѣрите, какъ эта мысль облегчаетъ мнѣ иногда сердце» ( Гр , 2: 16).
В воспоминаниях Достоевского возникает относительное будущее, когда он находится в одном времени, а переносит свое воображение в другое. Этот художественный эффект возникает при упоминании Тобольска:
«Еще годъ спустя, въ Тобольскѣ, когда мы, въ ожиданiи дальнѣйшей участи, сидѣли въ острогѣ на пересыльномъ дворѣ, жены декабристовъ умолили смотрителя острога и устроили въ квартирѣ его тайное свиданiе съ нами» ( Гр , 2: 16).
Необходимо уточнение этой даты воспоминания. Достоевский пишет, что спустя год после смерти Белинского он был в Тобольске. Однако критик умер в мае 1848 г., а Достоевский находился в Тобольске в январе 1850 г., то есть практически два года спустя. В этом фрагменте «Дневника» возникает символический хронотоп. Достоевский вспоминает, как жены декабристов каждого «одѣлили евангелiемъ — единственной книгой, позволенной въ острогѣ» (Гр, 2: 16). Однако, как заметил В. Н. Захаров, «Достоевский не уточнил обстоятельства вручения — он раскрыл смысл события, но не сказал, как это было» [Захаров, 2015: 47]. Достоевский создал образ, который был верен, но его фактическая сторона была иной [Захаров, 2015: 48].
В первых главах «Дневника Писателя» 1873 г. возникает сложная хронотопическая иерархия. Так, выделяются условно реальные и фантазийные хронотопы, внутри которых есть более локальные: китайский, герценовский, символический, петербургский и др. Все это можно охарактеризовать как художественный хронотоп, который существует в пространстве высказывания, речи. У Достоевского такое соотношение дает синтез художественного явления. Хронотоп «Дневника Писателя» отличается от реального времени-пространства 20 декабря 1872 г., о котором пишет Достоевский, Петербурга 1840-х гг., Китая, Европы и т. д. Они не тождественны. Усложняется поэтика хронотопа тем, что «Дневник» входит в состав повременного издания. В «Гражданине» рубрика
Достоевского являлась идейным стержнем еженедельника. Тематически были связаны не только главы «Дневника», но и все размещенные статьи в номере, поэтому Достоевскому необходимо было концептуально предусматривать проблематику рубрики и номера в целом.
Вып. 2. С. 44–57 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/ article.php?id=2358 (16.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1992.2358
Список литературы Формирование хронотопа в «Дневнике писателя» Достоевского 1873 г. (главы «Вступление», «Старые люди»)
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет. М.: Худож. лит., 1975. 502 с.
- Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Русское слово, 2000. Т. 2. 798 с.
- Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари, Языки славянских культур. 2002. Т. 6. 799 с.
- Волгин И. Ничей современник. Четыре круга Достоевского. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. 736 с.
- Головко В. М. «Студия» в системе жанров «малой прозы» И. С. Тургенева // Жанр и композиция литературного произведения: историко-литературные и теоретические исследования. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1989. С. 65–76.
- Денисова А. В. Функции хронотопа в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Ф. М. Достоевского // Культура и текст. 2016. № 1 (24). С. 64–74 [Электронный ресурс]. URL: https://journal-altspu.ru/wp-content/uploads/2016/04/denisova_1_2016.pdf (14.04.2023).
- Есаулов И. А. О некоторых особенностях рассказа А. П. Чехова «Ванька» // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. Т. 5. С. 479–483 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2544 (12.03.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2544
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 209 с.
- Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 249–261 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2403 (12.03.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1994.2403 (a)
- Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского / отв. ред. В. Н. Захаров. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. С. 37–49. (b)
- Захаров В. Н. «Вечное Евангелие» в художественных хронотопах русской словесности // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск; СПб.: Алетейя, 2011. Вып. 9. С. 24–37 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1429962964.pdf (12.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2011.301
- Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. М.: Индрик, 2012. 264 с.
- Захаров В. Н. Поэтика хронотопа в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. Вып. 11. С. 180–201 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431516399.pdf (12.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2013.379
- Захаров В. Н. Кто подарил Достоевскому Евангелие в январе 1850 года? // Неизвестный Достоевский. 2015. № 2. С. 44–53 [Электронный ресурс]. URL: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1447754621.pdf (15.04.2023). DOI: 10.15393/j10.art.2015.2464
- Захаров В. Н. Идея этнопоэтики в современных исследованиях // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 3. С. 7–19 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1593805089.pdf (12.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8382
- Кубасов А. В. Жанрово-стилевые особенности хронотопа дороги в рассказе А. П. Чехова «На подводе» // Проблемы стиля и жанра в русской литературе XIX — начала XX века. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 1989. С. 96–103.
- Куплевацкая Л. А. Символика хронотопа и духовное движение героев в романе «Братья Карамазовы» // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Наука, 1992. Т. 10. С. 90–100.
- Летаева Н. В. Пасхальный хронотоп в прозе В. А. Никифорова-Волгина // Ученые записки Новгородского государственного университета. 2022. № 4 (43). С. 475–478 [Электронный ресурс]. URL: https://portal.novsu.ru/univer/press/eNotes1/i.1086055/?id=1887014 (12.04.2023). DOI: https://doi.org/10.34680/2411-7951.2022.4(43).475-478
- Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988. С. 251–293.
- Ляпаева Л. В. Хронотоп пути и его концептуальное значение в пьесе М. Горького «На дне» // Классика. Современное прочтение (Д. И. Фонвизин, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, М. Горький, В. В. Маяковский, М. А. Шолохов, А. Аверченко). Чебоксары: Изд-во Чувашского гос. ун-та им. И. Н. Ульянова, 1993. С. 40–46.
- Политов А. В. Онтологический смысл понятия хронотопа в философских идеях А. Ухтомского и М. Бахтина // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2014. Т. 14. Вып. 4. С. 50–62.
- Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 227–284.
- Туниманов В. А. Публицистика Достоевского. «Дневник писателя» // Достоевский — художник и мыслитель: сб. ст. М.: Худож. лит., 1972. С. 165–209.
- Ухтомский А. А. Доминанта. СПб.: Питер, 2002. 448 с.
- Фаликова Н. Э. Хронотоп как категория исторической поэтики // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. Вып. 2. С. 44–57 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2358 (16.04.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1992.2358
- Федорова Е. А. Церковный календарь, евангельский и литургический текст в романе «Подросток» и «Дневнике Писателя» (1876) Ф. М. Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 1. С. 258–282 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1612777253.pdf (10.03.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9182
- Фирсова А. А. О пространственно-временной организации романа И. С. Тургенева «Новь» // Проблемы метода и жанра: сб. ст. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1983. Вып. 10. С. 145–153.
- Эйнштейн А. Собрание научных трудов: в 4 т. М.: Наука, 1965. Т. 1. 704 с.
- Юрьева О. Ю. Хронотоп повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой»: этнопоэтический аспект // Проблемы исторической поэтики. 2019. Т. 17. № 2. С. 289–313 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1561997953.pdf (14.04.2023). DOI: 10.15393/j9.2019.6682