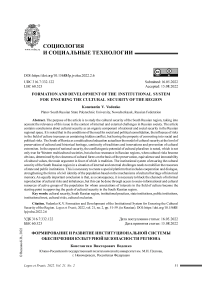Формирование и развитие институциональной системы обеспечения культурной безопасности региона
Автор: Воденко Константин Викторович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Целью представленной статьи является исследование культурной безопасности южнороссийского региона, учитывая актуальность данной проблематики в контексте внутренних и внешних вызовов в российском обществе. В статье содержатся выводы о культурной безопасности как органической составляющей национальной и социальной безопасности в российском региональном пространстве. Отмечается, что в условиях необходимости социальной и политической консолидации возрастает влияние рисков в сфере культуры как содержащих скрытую конфликтность, но имеющих свойство конвертироваться в социальные и политические риски. Юг России как поликультурное образование актуализирует модель культурной безопасности на уровне сохранения культурно-исторического наследия, преемственности традиций и инноваций и профилактики культурного экстремизма. В аспекте национальной безопасности отмечается конфликтогенный потенциал культурного плюрализма, что не только верно для западных поликультурных обществ, но и имеет резонансность в российских регионах, когда очевидными становятся культурные риски, определяемые закрытостью культурных форм на основании сохранения, равнозначности и неизменности культурных ценностей, основным аргументом в пользу которых является традиционность. Институциональная система обеспечения культурной безопасности южнороссийского региона в ситуации внутренних и внешних вызовов нуждается в мобилизации ресурсов государственных и общественных институтов. Это необходимо для создания особой платформы, включающей сотрудничество и диалог, укрепления форм гражданской идентичности населения на основе механизмов культурного наследия исторической памяти. Не менее важный вывод состоит в том, что как следствие требуется блокирование каналов неформального воспроизводства культурных рисков и диспропорций, но это возможно сделать через доступ к социально-информационным и культурным ресурсам активных групп населения, для которых объединения интересов в сфере культуры становятся стартовыми в одобрении целей культурной безопасности в южнороссийском регионе.
Культурная безопасность, южно-российский регион, институциональные практики, государственные институты, общественные институты, институциональное доверие, культурные риски, культурное исключение
Короткий адрес: https://sciup.org/149141633
IDR: 149141633 | УДК: 316.7:332.122 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2022.2.6
Текст научной статьи Формирование и развитие институциональной системы обеспечения культурной безопасности региона
DOI:
Цитирование. Воденко К. В. Формирование и развитие институциональной системы обеспечения культурной безопасности региона // Logos et Praxis. – 2022. – Т. 21, № 2. – С. 51–59. – DOI:
Актуальность темы исследования
Региональное пространство России сформировалось, обретя черты целостности в политико-правовом аспекте, но открытым остается вопрос о социальном развитии регионов, о том, что до сих пор не переломлена ситуация разделения регионов по уровню бюджетирования и, что не менее важно, – сближения по показателям доходности и качества жизни. Долгое время система социальных трансферов, с одной стороны, содействовала минимизации узких мест в стратегии обеспечения развития регионов, но с другой – воспроизводила и воспроизводит эффект социальной стагнации, снижения мотивации на региональном уровне к механизмам социального и экономического саморазвития.
Отмечая данное обстоятельство, следует подчеркнуть, что в настоящий период в ситуации форс-мажора, когда страна и общество испытывают влияние внутренних и внешних вызовов, на первый план выдвигаются вопросы обеспечения стабильности, поступательности и социальной безопасности. В этом контексте чрезвычайно важно выявить условия и факторы социальной безопасности как системы воздействий со стороны социального и государственного управления на предсказуемость, рис-когенность регионального пространства.
Однако, как показывает опыт предшествующего десятилетия, социальная безопасность российского регионального пространства включает совокупность позиций и диспозиций, формируемых субъектами регионального пространства, и в эту структуру входит культурная безопасность региона. Возвращаясь к мысли о необходимости социальной консолидации российского общества о возможностях сочетания и согласования традиционных и инновационных методов развития, логики импортозамещения в экономической сфере, требуется внести ясность понимания культурной безопасности как состояния российского регионального пространства, включающего механизмы культурной памяти и культурной преемственности, с целью обеспечения культурного воспроизводства, обретения иммунитета против антисистемных тенденций и фактов, носящих элементы нестабильности и диссонанса [Горшков, Тихонова (ред.) 2018].
Очевидно, что в этом направлении только наметились контуры культурной политики государства, что при концентрации усилий на формировании правовой базы культурной безопасности в рамках противодействия экстремизму, национализму и сепаратизму еще предстоит большая работа по налаживанию духовно-морального единства российского общества, создания условий для принятия в культурноценностный консенсус, формирования дискурса общих целей и ценностей.
Стратегия обеспечения культурной безопасности российского общества включает три основных аспекта: структурный, институциональный и субъектный. Не останавливаясь подробно на вопросах структурного, организационного, развития системы культурной безопасности российских регионов, мы концентрируем внимание на институциональной системе как воспроизводстве соответствующих механизмов, включающих правила ценностей и нормы. Таким образом, актуальность реализуемого исследования определяется задачами концептуального и социально-практического характера, что необходимо для социальной диагностики культурной безопасности региона как социально-территориальной и социально-культурной целостности. Это предполагает понимание культурной безопасности региона как органической составляющей социальной безопасности российского регионального пространства, так как в рамках развития российских регионов содержится тенденция влияния культурных факторов на региональную жизнь в целом и настроения населения регионов в рамках региональной культурно-исторической биографии и ориентированности на пропорцию политических, экономических, социальных, психологических влияний и воздействий [Белозор 2019; Романова и др. 2017; Сергеев 2010].
Методология исследования
Региональная социология как отрасль социологического знания практически сформировалась параллельно с процессом регионализации России, формированием российского государства как страны регионов. Целесообразно подчеркнуть, что в отличие от американской, мексиканской, бразильской и индийской моделей регионального развития российские регио- ны отражают логику государственности, основанную на принятии политико-правового и социально-экономического содержания российских регионов. Здесь уместно отметить, что в региональной социологии до сих пор не изжиты штампы «народного хозяйства» или достаточно проявляются намерения рассматривать регионы исключительно в рамках политико-правовой иерархии, сводить проблемы регионального и межрегионального развития к взаимоотношениям с федеральными центрами. С другой стороны, признавая тот факт, что для российского регионального пространства свойственно влияние тенденции централизации, нельзя игнорировать специфику региональных отношений, характеризуемых обратными связями с федеральным центром. Российская государственность прошла трудный путь становления, не завершилась как формула безукоризненного российского регионализма. Наоборот, вопросы финансирования межбюджетных отношений, статуса региона и национальных республик в составе Российской Федерации требуют своего концептуального осмысления и практического разрешения. Также очевидно, что развитие региональной социологии характеризуется сменой концептуальных парадигм, содержащих анализ и описание тех периодов регионального развития.
Если говорить об истоках и условиях концептуализации регионального пространства, требуется определиться, во-первых, с тем, что региональная социология перестала воспринимать регион в дилемме «экономика-политика», а это имеет последствия для презентации второго существенного момента. Регион является сложным многоуровневым социокультурным образованием и в силу этого фактора может быть интерпретирован в контексте культурной безопасности. Культура как структурное и институциональное ядро региона включает в качестве важнейшего условия и реализации национальных интересов и приоритетов устойчивость социальной и духовно-нравственной системы по отношению к внутренним и внешним угрозам, и эта устойчивость включает культурную безопасность как составляющий элемент государственной и национальной безопасности [Маркин (ред.) 2007]. Вместе с тем, интерпретируя культуру как правила игры коллективного существования при различной степени нормативной регу- ляции, можно сказать, что очевидным становится признание наследственных механизмов культуры, роли культурной памяти и традиции.
Исходя из данного положения, мы основываемся на генетическом концепте культурной безопасности, включающем соотношение норм, ценностей и принципов, имеющих качество регулярности, легитимизации, неформальных и формальных норм и соглашений, формирующих культурную среду региона. В культурной безопасности региона важным моментом выступает степень консолидирующего или конфликтогенного воздействия культурных норм смыслов и ценностей. И для того чтобы вывести парадигму культурной безопасности региона, следует уяснить, что культурная безопасность является составной частью национальной безопасности, общих правил упорядоченности, предсказуемости, устойчивости и специфики социокультурной регуляции как условия воспроизводства культурных практик субъектов регионального социума.
Поддерживая данное положение, мы фиксируем поликультурность и полиэтничность южнороссийского региона, который для нас не является механическим административным конструктом, а характеризуется культурной динамикой, культурными изменениями, и по этой причине мы признаем обоснованность применения институциональных процедур и схем, понимаем, что культурная безопасность основывается на конкретной институциональной системе, включающей общественные и государственные институты. То, что это положение является конструктивным для методологии исследования, очевидно по двум обстоятельствам: во-первых, вне институциональной системы трудно представить, каким образом осуществляется функция культурной сферы в жизни региона, как и в какой степени общественные и государственные институты реализуют организующие и воспитывающие функции в региональной жизни; во-вторых, вне институционального аспекта диагностика социокультурных кризисов и изменений является проблематичной. Если свести оценку состояния культуры к субъективным мнениям и представлениям, особенно административных и культурных элит, определение границ и возможностей развития культуры, выявление культурных маркеров и культурных стилей становится задачей, не выполнимой в контексте социологи- ческого анализа. Поэтому для нас важно, исходя из критерия приемлемости культурных практик по социальной цене и последствиям, баланса свободы и осознанности, поддержать институциональные процедуры в интегрированности социокультурных аспектов, соотношений социо и культуры в коллективных действиях людей, являющихся субъектами сложившихся социальных отношений.
Для установления особенностей культурной безопасности в южнороссийском регионе формулируется отношение к ключевым институтам культурной безопасности как региональный институт культурной политики, региональной структуры власти (Администрация, Законодательное собрание, общественные и творческие организации). Таким образом, методология исследования определяется содержанием и целью культурной безопасности, характеризуется отношением внутри регионального пространства по степени устойчивости и кон-солидированности, нейтрализации социальных и культурных рисков и активности антисистем-ных групп (групп культурного экстрима). Методологический выбор определяется предметной областью исследования и наработанными в региональной социологии концептуальными схемами, что направлено на повышение достоверности выводов и обобщений.
Степень разработанности
Культурная безопасность российских регионов обрела особую значимость в контексте внешних и внутренних вызовов российскому обществу и государству. Если выделить основные параметры накопленного в региональной социологии исследовательского дискурса, то следует квалифицировать три основных направления.
Во-первых, это функциональная парадигма культурной безопасности, в рамках которой актуализируется положение теории социальных рисков, теории дисфункциональности, социального воспроизводства. Их можно условно объединить как ориентированность на соответствие институциональной системы критериям культурной безопасности. В этом смысле нельзя отрицать позитивные результаты, связанные в первую очередь с пониманием культурной безопасности как имеющей функциональное измерение, критерии поддержания и планирования культурной безопасности на уровне государственных и общественных институтов, работающих в культурной сфере регионов [Щукина 2015].
Во-вторых, это выявление групп рисков, претендующих на культурные инновации (изменения), но выражающих интересы контркультурного свойства, критицизм по отношению к традиционным культурным нормам и ценностям и внедрение постмодернистского либерального дискурса в культуре, практически опровергающего культурные ценности, имеющие фундаментальный характер. В исследованиях российских социологов в контексте изучения молодежной проблематики выявлено, что группы социального риска с направленностью на девиантные практики воспроизводят риски в сфере культуры, действуют по логике конфронтации с официальными и неофициальными структурами культуры, которые обвиняют в коллаборационизме с властью, препятствии деятельности творческих коллективов, провозглашении бескомпромиссных позиций в отношении традиционной культуры.
В-третьих, в рамках осмысления культурной безопасности немаловажное место занимает активность культуротворческих групп, их разделение по коммерческому эн-вертоментальному, гражданскому спектрам. Определенный недостаток функционализма заключается в сематизме предложенных интерпретаций, определении функционала как доминирующего принципа культурной безопасности в регионе, что не совсем учитывает динамику культурных процессов, статус субъектов культуротворчества и мобилизаци-онно-консолидирующий потенциал культуры в региональном пространстве.
Субъектно-деятельностный подход, разработанный школой М.К. Горшкова и развернутый в исследованиях российских ученых, характеризуется нацеленностью на определение субъектного аспекта культурной безопасности и переводит исследование на критерии субъектности, следствием чего является возможность направить дискурс изучения в пространство массовой и элитарной культуры. При этом подчеркнем, что ключевым фактором культурной безопасности становится уро- вень институционального доверия к институтам, реализующим культурную политику. Может показаться, что предложенный категориальный ряд, в котором культурная безопасность «окультуривается», становится состоянием оценкой деятельности государственных и общественных институтов, приводит к выпадению из задач исследования новых культурных феноменов как субкультуры, но мы согласимся с М.К. Горшковым, что в доверие институтов репрезентирует целый комплекс объективных и субъективных, социальных и политических отношений [Горшков (ред.) 2015].
Важный аспект исследований переносится на доверие как уровень одобрения или неодобрения действующих институтов в сфере культуры. В этом контексте культурная безопасность в региональном пространстве определяется по двум параметрам: оценке состояния культурной сферы региона и результату влияния на данную сферу институтов культуры. По сравнению с государствообразующими институтами (Президент, правительство, парламент) институты культуры характеризуются более низкой степенью доверия, вероятно, по той причине, что культура до сих пор оценивается в массовом сознании как вторичное явление. Но, как показывают исследования, до сих пор не выработан критерий ответственности за культурную безопасность как по состоянию культурной политики, реализуемой в региональном пространстве, так и по уровню интересов субъектов культуры, где есть проблема соотношения частных и государственных интересов. Это в целом создает более сложную и противоречивую картину в оценке тенденций и перспектив культурной безопасности региона, но, как показывают данные исследования, в рамках культурной безопасности важно определить роль «державных» институтов и общественных, обладающих потенциалом самоорганизации.
Изучение институциональной системы культурной безопасности региона характеризуется работами коллектива во главе с Н.И. Лапиным, посвященными проблемам консолидации социального пространства России. Как признают авторы исследования, подрыв исторических интеграторов обществом имеет в качестве негативного последствия утрату идеа- лов справедливости, характерных для российской культуры [Маркин (ред.) 2015]. В силу поликультурности и полиэтничности многих российских регионов формируется запрос на достижение соответствия между изменившимися социальными условиями и традиционными ценностями, нормами российской культуры. Возникающие диспропорции приводят к отчуждению, создают конфликт между поколениями, формируют культурную эксклюзию, механизмы исключения определенных этнокультурных групп из общественного пространства. В данном контексте определенный запрос есть на исследования, которые рассматривают состояние концептуализации молодежи в XIX в., оценивают молодежные субкультуры через специфику формирования молодежных идентичностей, новых типов солидарности молодежи, формирование жизненных (культурных стилей), что в некоторой степени совпадает с работами Ю.А. Зубок и М.К. Горшкова, но при этом выявляет перенос акцентов с описания структурных барьеров интеграции молодежи в обществе на субъектно-деятельностные установки [Тощенко (ред.) 2013].
Таким образом, в контексте оценки разработанности данной проблемы обратим внимание на императив регионализации акцента на конкретном состоянии культурной сферы региона и диагностики культурной безопасности как интегративного показателя стабильности и устойчивости культурной сферы региона. В отношении южнороссийского региона, где выявляется диалектика общего и особенного, связанного с одной стороны с общероссийскими показателями культурной динамики, с другой – с культурным разнообразием региона, историческими, этническими и социальными аттитю-дами, можно констатировать: во-первых, культурная безопасность южнороссийского региона исследуется в основном в контексте социальной безопасности, а это эффективно в рамках противодействия внешним и внутренним рискам, но есть определенная сложность в том, что действующий дискурс культурной безопасности приводит к выпадению целых пластов культуры (традиционной и нетрадиционной). Как правило, приоритеты культурной безопасности основываются на нейтрализации культурного экстремизма, профилактике культурных девиаций, где требуется активность эксперт- ного сообщества, привлечение к работе представителей региональной культурной элиты. Поэтому содержание статьи основывается на анализе реального положения в сфере культурной безопасности региона и рекомендаций по проблемам, имеющим как общероссийский, так и внутрирегиональный характер.
Материалы исследования
Обращаясь к теме исследования и определив основные установочные моменты, необходимо рассматривать культурную безопасность в южнороссийском регионе в ее динамичном измерении, в том, что опора на традиционную культуру как фактор культурной безопасности в принципе является верной, если учитывать опыт предшествующих десятилетий, связанных с внедрением в российское общество идей мультикультурализма, которые при внешней привлекательности порождают конфликтогенность, выходящую за пределы личного и группового культурных предпочтений. Американский исследователь С. Бенхабиб [Бенхабиб 2003] пришла к выводу, что культурные претензии имеют право на культурную исключительность и префенкциальность, способствуют возникновению не демократических и не либеральных эффектов этноцентризма, этнорасизма, культуры «нетерпимости» и в целом приводят к становлению демократии меньшинств.
В российском обществе в период расцвета регионального и этнического сепаратизма (и это проявилось в южнороссийском регионе на уровне массовых общественных движений и политико-партийных манипуляций) фрагментация регионального пространства стимулировалась этнократическими и регионалистскими устремлениями и на уровне региональных элит и влияла на общественные настроения в региональном социуме в качестве механизма замещения социальных, экономических противоречий.
Как отмечал российский исследователь Ж.Т. Тощенко [Тощенко 2001], в выделенной концепции парадоксального человека есть несомненная коррекция между культурной неграмотностью и безграмотностью, этнок-ратизмом и политическим нигилизмом. Данная конструкция основывается на том, что парадоксальный человек как личность эпохи перемен, приведших к неоднозначным результатам, мыслит схематизмами и стереотипами, перенесенными из культурного прошлого или включающими одномерное знание о многомерных процессах. Культурная безопасность южнороссийского региона в постсоветский период характеризовалась, что не является исключением, дилеммой стихийности, анархизма и государствоцентризма, причем российские социологи независимо от идейных предпочтений в целом соглашались с тем, что в России государство является центром общественной жизни и к этому располагают культурно-исторические предпосылки. В сфере культурной политики действовал рецидив бесконфликтности, реально выраженный в том, что культурные акции, имеющие сепаратистскую и протестную направленность, не вызывали критического отношения и критической оценки по причине, с одной стороны, борьбы за власть и богатство региональных и федеральных элит, с другой – становления неформального консенсуса власти и масс, основанного на разделении сферы деятельности на властные отношения, к которым вырабатывался и поддерживался индифферентизм, и приватную сферу, в которой культура понималась как личный выбор вне влияния государства.
Ситуация «на перепутье» определяла отношение к культурной безопасности как периферийной теме в развитии южнороссийского региона. Это происходило на фоне проявления экстремистских настроений в среде групп «этнического бизнеса», которые ориентировались на овладение механизмами власти и богатства при помощи «тарана» культуры. Долгое время с использованием слабости государственной политики в сфере культурных отношений утверждались схемы культурной исключительности казачества и других народов, населяющих южнороссийский регион, и под призывами к политике реабилитации, возмещения ущерба, нанесенного культуре и языку народов региона, формировались политические альянсы с намерением разыграть культурную карту. В этом смысле требовался период переосмысления роли культуры в современном региональном пространстве, определения критериев его устойчивости, про- порциональности и сбережения культурного наследия.
Как показали исследования региональных ученых [Волков и др. 2017] об институциональных практиках и ценностной политике в сфере межэтнических отношений, в аспекте национальной безопасности отмечается конфликтогенный потенциал культурного плюрализма. Это положение верно не только для западных поликультурных обществ, оно имеет резонансность и в российских регионах, когда очевидными становятся культурные риски, определяемые закрытостью культурных форм на основании сохранения, равноценности и неизменности культурных ценностей, основным аргументом в пользу которых является традиционность.
Очевидно, что анализ состояния культурной безопасности не до конца определяется сложившимися институциональными практиками, где до сих пор не преодолен разрыв между формальными и неформальными регуляторами культуры. Официальный культурный дискурс статичен, регламентируется представлениями о правильном и неправильном в культуре, основывается на оценке культурного символического капитала, конкретного субъекта культуры, использования культурного бренда (коллективы пения и танца, утвержденные в официальном реестре и входящие в разряд адресатов поддержки государственных и региональных властей).
Массив неформальной культуры реально не проходит «тест» на социальную добродетель и гражданскую зрелость: сложилась ситуация дистанцированности субъектов официальной культуры и групп неформального творчества, которые сокращаются в нынешний период под принятием формулы патриотизма культурных инициатив. Вместе с тем не достигнуто состояние необходимости регулярной методической работы с группами культурного акционизма на основе партнерства и взаимопонимания, включение неформальных групп в культурный мейнстрим южнороссийского региона.
С учетом поликультурности южнороссийского региона, «стыда» православной, исламской и буддистской цивилизаций цель культурной безопасности выражается в достижении баланса различных субъектов культурной деятельно- сти. Очевидно, что схема внутренней колонизации региона, обоснованная некоторыми российскими социологами как признак унификации регионального пространства под влиянием массовой культуры, нуждается не в отклонении, а в осмыслении, если считать ее сильной стороной детрадиционализацию российского общества, высокую степень урбанизированности и закрепления форм потребительской культуры.
Естественно, культурная безопасность не может восприниматься как апология традиционализма, ее миссия определяется двуединой задачей: сохранение культурного наследия, необходимого в процессе диалога поколений, имеющего консолидирующие значения и мониторинга культурных изменений на институциональном и групповом уровне, и разделение между экстремизмом и модностью культурных стилей в рамках формирования фильтров на пути инвазии радикальных культурных образцов, свойственных эпохе постмодерна. Здесь важно отметить, что культурное пространство южнороссийского региона гибридно, характеризуется определенной степенью эклектичности, смешением культурных форм и стилей, влиянием ин-тернет-пространства и сужением традиционных форм культурного воспроизводства. Как следствие – театры, музеи и выставки становятся «кунсткамерами» и, несмотря на тенденцию обновления, перестали быть пространством культурных коммуникаций.
Этот фактор влияет на состояние культурной безопасности, потому что неприятие «устаревшего» в культуре может сопровождаться принятием конфликтной позиции «творцами» культурных инноваций. Для культурной географии южнороссийского региона свойственно деление по критерию культурной безопасности (устойчивости и рискогенности), градация доверия к институтам культуры, где модельный уровень характеризуется невысокой плотностью культурных эксцессов и потенциальной рискогенностью неформальных культурных групп, ориентированных на закрепление приватного пространства и низкую степень готовности к вступлению в продуктивный диалог со структурами культурной политики. Сегмент конфронтации в сфере культурной безопасности южнороссийского региона концентрирован в группах культурного риска, имеющих характер «культурного сектант- ства» и высокую степень интолерантности к официальной культурной политике. Здесь свойственно оценивать уровень культурной безопасности как постоянный мониторинг культурных рисков, способных конвертироваться в политические вызовы.
Заключение
Таким образом, институциональная система обеспечения культурной безопасности южнороссийского региона в ситуации внутренних и внешних вызовов нуждается в мобилизации ресурсов государственных и общественных институтов. Это необходимо для создания особой платформы, включающей сотрудничество и диалог, укрепления форм гражданской идентичности населения на основе механизмов культурного наследия исторической памяти. Не менее важный вывод состоит в том, что, как следствие, требуется блокирование каналов неформального воспроизводства культурных рисков и диспропорций, но это возможно сделать через доступ к социально-информационным и культурным ресурсам активных групп населения, для которых объединения интересов в сфере культуры становятся стартовыми в одобрении целей культурной безопасности в южнороссийском регионе.
Список литературы Формирование и развитие институциональной системы обеспечения культурной безопасности региона
- Белозор 2019 - Белозор А.Ф. Культурная безопасность как основа культурной идентичности // Человек и культура. 2019. №№ 1. С. 80-86.
- Бенхабиб 2003 - Бенхабиб С. Притязание культуры М.: Логос, 2003.
- Волков и др. 2017 - Волков Ю.Г., БедрикА.В., Воденко К.В. и др. Имплементация зарубежных моделей национальной интеграции, ценностной политики и институциональных практик в сфере межэтнических отношений в российских условиях: монография. М.: Социально-гуманитарные знания, 2017.
- Горшков (ред.) 2015 - ГоршковМ.К. (ред.). Российское общество и вызовы времени. В 5 кн. Кн. 2. М.: Весь мир, 2015.
- Горшков, Тихонова (ред.) 2018 - ГоршковМ.К., Тихонова Н.Е. (ред.). Столицы и регионы в современной России: мифы и реальность 15 лет спустя. М.: Весь мир, 2018.
- Маркин (ред.) 2007 - Маркин В.В. (ред.). Региональная социология в России: сб. материалов со-циол. исслед. М.: Экслибрис-Пресс, 2007.
- Маркин (ред.) 2015 - Маркин В.В. (ред.). Региональная социология: проблемы консолидации социального пространства России. М.: Новый хронограф, 2015.
- Романова и др. 2017 - Романова А.П., Якушенков С.Н., Баева Л.В., Хлыщева Е.В., Бичаро-ваМ.М., ЛебедеваИ.В., ТопчиевМ.С., Яку-шенкова О.С., Алиев Р. Т. Культурная безопасность в условиях гетеротопии: монография. Астрахань: Астрах. ун-т, 2017.
- Сергеев 2010 - Сергеев В.В. Культурная безопасность современного российского общества как социокультурная проблема // Обсерватория культуры. 2010. №№ 1. С. 90-92.
- Тощенко 2001 - Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек. М.: Гардарики, 2001.
- Тощенко (ред.) 2013 - ТощенкоЖ.Т. (ред.). Новые идеи в социологии: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
- Щукина 2015 - Щукина Е.Л. Культурная безопасность современной России как элемент национальной безопасности // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2015. №> 3. С. 346-350.