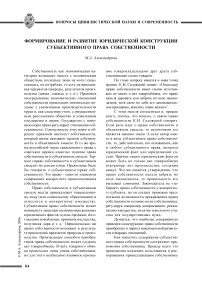Формирование и развитие юридической конструкции субъективного права собственности
Автор: Александрина Марина Александровна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Вопросы цивилистической науки и современность
Статья в выпуске: 8, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14972625
IDR: 14972625
Текст статьи Формирование и развитие юридической конструкции субъективного права собственности
Собственность как экономическая категория возникает вместе с человеческим обществом, поскольку люди не могут существовать, не потребляя, то есть не присваивая предметов природы, результатов производства (пища, одежда и т. п.). Правовое опосредование экономических отношений собственности происходит значительно позднее: с увеличением производительности труда и, как следствие этого, с имущественным расслоением общества и появлением государства и права. Государство с помощью норм права регулирует отношения собственности. Совокупность этих норм и образует правовой институт собственности, который иначе называют правом собственности в объективном смысле. В то же время российской науке гражданского права с советских времен известно понятие права собственности в субъективном смысле. Термин «право собственности в субъективном смысле» не совсем точен. Правильнее было бы говорить о субъективном праве собственности. Это право – один из элементов содержания конкретного правоотношения собственности.
Право собственности в субъективном смысле всегда принадлежит определенному лицу (или социальному образованию) и относится к конкретному имуществу. Субъективное право собственности может возникнуть лишь при наличии определенных юридических фактов: купли-продажи, изготовления новой вещи, принятия наследства, получения дара и т. д.1 Первоначально же право собственности возникает в результате присвоения предметов природы и производства. Производным способом приобретения права собственности может служить акт товарообмена. В акте товарного обмена происходит лишь смена собственников, но для этого необходимо взаимное призна- ние товаровладельцами друг друга собственниками своих товаров.
По этому вопросу имеется и иная точка зрения. К.И. Скловский пишет: «Поскольку право собственности имеет своим источником не закон, а акт товарообмена, это право нельзя даровать или забрать по воле законодателя, хотя само по себе его законодательное признание, конечно, очень важно»2.
С этим нельзя согласиться и, прежде всего, потому, что неясно, о каком праве собственности К.И. Скловский говорит. Если речь идет о праве собственности в объективном смысле, то источником его является именно закон. А если автор имеет в виду субъективное право собственности, то, действительно, его основанием, как и любого субъективного права, является юридический факт или юридический состав. Причем таким юридическим фактом может быть не только акт товарообмена (например, акт производства, создания вещи). Что же касается утверждения, что право собственности нельзя забрать по воле законодателя, то правильность его вызывает сомнения. Законодатель не «забирает» право собственности у конкретного субъекта, но он создает правовые предпосылки возможности прекращения права собственности помимо воли собственника, регулируя, например, конфискацию, реквизицию имущества, изъятие земельного участка для государственных нужд.
Думается, что наиболее совершенную правовую конструкцию право собственности приобретает в период максимальной развитости товарных отношений.
Как известно, содержание субъективного права собственности составляют правомочия собственника. Прежде всего это правомочия владения, пользования и распоряжения принадлежащим собственнику имуществом. Долгое время в науке господствовало мнение о том, что до нас дошла практически без изменений юридическая конструкция содержания субъективного права собственности из римского права. Действительно, в римском праве можно найти указания на отдельные правомочия, связанные с собственностью: uti, frui, habere, possidere и др. Но они употреблялись в разных, часто не совпадающих и взаимоисключающих значениях для различных ситуаций. Под ними понимались: владение; владение, соединенное с пользованием, собственность, неполная собственность, заведомо ограниченное право и др. При этом, например, владение (possessio) определялось как «некое пользование» (quidam usus), что с позиции классической триады просто бессмысленно 3.
Нередко можно было встретить высказывания типа: «Римские юристы разработали основные правомочия собственника. Они говорили, что собственнику принадлежит право пользования вещью, право получения плодов, право распоряжения вещью». Подобная ситуация объясняется не только наличием в источниках римского права указаний на отдельные полномочия, связанные с собственностью, но и существованием уже тогда конструкции «голого права собственности» (nudum ius Quiritium). Последняя, при поверхностном ее рассмотрении, может действительно показаться логически близкой к идее строения субъективного права собственности как набора правомочий. И если эти правомочия одно за другим будут переданы другим лицам, то останется одно «голое право», как «пустая обойма». Однако при более тесном знакомстве с контекстом, в котором возникло nudum ius, становится очевидным вывод – отказ от каких-либо ассоциаций с идеей триады или иного перечня.
В римском праве речь шла прежде всего о противопоставлении так называемой бо-нитарной и квиритской собственности.
Господствующей легальной конструкцией римского права собственности, сложившейся путем интерпретации римскими юристами древних Законов XII таблиц, оставалась dominium ex iure Quiritium (буквально:
«господство по праву квиритов»). Этим словосочетанием классические юристы обозначали право собственности как господство над материальным объектом, субъектами которого являлись главным образом римские граждане (квириты) и которая приобреталась строго установленными цивильными способами.
Непререкаемый авторитет, стабильность действия и строгость древних правовых установлений, особенно Законов XII таблиц, заставили римскую юридическую практику пойти по пути приспособления наличных цивильных средств к новым в то время социально-экономическим условиям. Рост рабовладения во II в. до н. э. потребовал от римской юриспруденции создания гибкого, мобильного механизма для закрепления в имуществе приобретателей-рабовладельцев рабской рабочей силы. Таким механизмом стала конструкция так называемой бонитар-ной, преторской собственности. Однако некоторые ученые вполне обоснованно считают, что бонитарной собственности как таковой не существовало. И действительно, римская юриспруденция на протяжении своей долгой истории не знала термина «бонитар-ная» или «преторская» собственность. Бони-тарное обладание представляло собой в римской юриспруденции особую юридическую конструкцию.
Бонитарный обладатель путем давностного использования (1 год – для движимых вещей и 2 года – для недвижимых) приобретал квиритское право собственности. Он не имел полноты права на вещь, но обладал полнотой реального господства над нею. Бонитарная конструкция близка правомочию владения по цивильному праву. Однако римские классические юристы не квалифицировали ее как частный случай владения. Во-первых, в отличие от владения, приобретенного всегда первоначальным способом, бонитарное обладание приобреталось, как правило, производным путем. Во-вторых, только бонитарному обладанию были присущи особые, достаточно сильные средства юридической защиты 4.
Таким образом, с большой долей уверенности можно утверждать, что сложившиеся в нашей юридической, главным образом в учеб- ной, литературе теоретические представления о римском праве собственности не вполне соответствуют источникам римского права. Подтверждение этому – последние трактовки учеными-историками Институций Гая и Дигест Юстиниана.
Римская юриспруденция не выработала (или не считала нужным выработать) «единого» и «абсолютного» права собственности, соответствующего общепризнанной ныне конструкции. Здесь мы находим совершенно иной подход к пониманию права собственности. Римская юриспруденция нередко удовлетворялась для обозначения собственности местоимениями «мое (моя)» и «наше (наши)».
Современным представлениям о юридической конструкции субъективного права собственности в наибольшей мере соответствуют правовые характеристики доминия и пропристас. Правовой режим доминия характеризовался как власть над вещью, приобретенной цивильными, то есть легальными способами. Пропристас наиболее близок к узуфрукту (право пользования и употребления плодов; сильная защита против третьих лиц и даже собственника; независимый характер). Однако последний являлся правом меньшего объема, чем пропристас. Пропристас прежде всего обозначало право на «мою» вещь. Узуфрукт же – это право пользоваться чужими вещами и извлекать из них плоды.
Очевидно, что в римском классическом праве не существовало все же аналога (смыслового и лингвистического) современной, традиционной юридической конструкции права собственности, то есть римскому праву не было присуще понимание содержания права собственности посредством перечисления основных правомочий собственника. Тогда было характерно понимание собственности через категории «власть» и «принадлежность», формировались различные правовые режимы – варианты функционирования права собственности. Но их соединение в одну единую правовую конструкцию не было осуществлено 5.
Итак, римское право не передало средневековью ни понятия субъективного права собственности как набора правомочий, ни, тем более, идеи триады. Лишь позднее в европейской средневековой юриспруденции, когда господствовала склонность к формализму и всевозможным классификациям, разграничениям и построению иерархических понятийных структур, когда даже недостоверное знание, неполное понятие подвергалось детализации, разбивалось на отдельные части, разделы, категории, выделяются и получают научное определение широко известные сегодня владение, пользование и распоряжение. Они объединяются в традиционную триаду, составляющую содержание права собственности.
В римском обществе субъекты права признавались равными и одинаково свободными. Формально на содержание свободы не влияло имущественное расслоение. Свобода собственности – это одна из основных свобод человека. Поэтому право собственности в римском праве было однозначным, одинаковым для всех.
В эпоху средневековья, в отличие от римского общества, происходит изменение права собственности. Оно становится дробным, неоднозначным, таким правом, которое не может быть абсолютным. Это объясняется происходившими изменениями характера свободы, которые сравнимы с процессом предоставления сеньорам, суверенам многозначных «свобод» вместо однозначной и полной свободы. Влияние изменений свободы на содержание права собственности осуществлялось путем предоставления отдельных правомочий (либо различных их сочетаний, либо совершенно «новых», кроме известной «триады», но являющихся фактически теми же самыми сочетаниями правомочий владения, пользования и распоряжения). И чем больше было таких правомочий, тем «полнее» получалось право собственности 6.
Таким образом, сколько ни пытались средневековые юристы дополнить содержание права собственности новыми правомочиями, это право не получило абсолютно полного характера и всегда оставались отдельные возможности, полномочия, не включенные в перечень правомочий. Получалось, что в эпоху средневековой «свободы» продолжало существовать несвободное право собственности.
Убедившись в тщетности попыток дать определение праву собственности посредством простого перечисления правомочий, ученые сочли наиболее верным остановиться на «триаде», включающей наиболее универсальные правомочия.
Однако собственность и право собственности в официальных нормативных актах признавались абсолютными и неприкосновенными. В эпоху буржуазных революций свобода собственности воспринималась как одно из священных прав человека, что было необходимо для защиты зарождавшегося буржуазного класса 7.
Утверждению понятия «собственность» в России предшествовало длительное развитие вещных прав и, в частности, прав на недвижимость.
В эволюции права собственности на недвижимость в России в ХVIII в. можно выделить два основных этапа. На первом этапе (до 60-х гг. XVIII в.) большая часть ограничений права собственности, унаследованных от феодализма и вытекающих из вотчинных прав, была снята, но введены новые ограничения, вызванные государственными фискальными и полицейскими целями. Второй этап (период правления Екатерины II) характеризуется уничтожением этих ограничений и законодательным утверждением права собственности. В это время появляется и сам термин «собственность». До Екатерины II принадлежность вещи конкретному лицу обозначалась согласно способам ее приобретения как «купля», «отчина», «приданое», «промысел» или же в соответствии с частными признаками вещных прав, например, «вечное потомственное владение», хотя древнерусское право знало термин «одарень», означавший полное и независимое право собственности, правда не дошедший до Нового времени 8.
В дореволюционном российском гражданском законодательстве право собственности определялось как власть лица, исключительная и независимая, осуществляемая в порядке, установленном гражданскими законами, власть пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и потомственно, поскольку эта власть не ограничена законом или правами других лиц.
Дословное (ч. 1 ст. 420) определение права собственности в Своде Законов Гражданских выглядело так: «Кто, быв первым приобретателем имущества, по законному укреплению его в частную принадлежность, получил власть в порядке, гражданскими законами установленном, исключительно и независимо от лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться оным вечно и потомственно, доколь не передаст сей власти другому или кому власть сия от первого ее приобретателя дошла непосредственно или через последующие законные передачи и укрепления: тот имеет на сие имущество право собственности».
Профессор А.М. Гуляев проанализировал данное определение так: «В приведенном законе указывается: а) происхождение власти (законный способ приобретения собственности); б) характер власти (исключительность и независимость власти от лица постороннего, вечность и потомственность власти); в) содержание власти (владение, пользование и распоряжение)». В целом же указанное выше понятие права собственности он сформулировал более лаконично: «Право собственности может быть определено как юридическое господство лица над имуществом»9.
Право собственности как правовой институт, соответствующее определению Свода Законов Гражданских (ст. 420), сложилось в своих существенных чертах, когда было объявлено о вольности дворянской в 1762 году и издана жалованная грамота дворянству в 1785 году. Историческое деление недвижимых имений на вотчины и поместья было упразднено еще Петром I в его Указе от 23 марта 1714 года о единонаследии, когда имения, состоявшие и в вотчинном, и в потомственном землевладении, были объединены общим понятием недвижимого имущества. И с этого времени они единообразно регулируются законодательством, а в содержание права собственности включаются три элемента – владение, пользование и распоряжение 10. Однако четкого определения этих элементов в гражданском законодательстве не давалось.
В решении Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената № 111 от 1873 года говорилось: «Хотя в законах гражданских нет точного определения понятия о владении, но из общего содержания и смысла постановлений, содержащихся в главе 2 раздела 2 книги 2 Законов Гражданских можно вывести, что под владением закон разумеет не только обладание вещью с целью извлекать из нее пользу, но и вообще всякое фактическое отношение к имуществу».
Владение выделялось и как самостоя- тельное явление, и как элемент содержания права собственности.
Русский просветитель-правовед А.П. Куницын выделял в праве собственности право владения, состоящее в праве приводить вещь в такое состояние, чтобы можно было удержать и сохранить оную, право на сущность, то есть право преобразовать, переменить ее существо, дать другому за награду или безвозмездно, употреблять сообразно ее назначению и противно оному, и право пользования как право употребления, пользования всеми качествами принадлежности к плодам вещи по своему произволу 11.
Закон различал владение законное и незаконное, добросовестное и недобросовестное. Законным признавалось владение, когда имущество приобреталось способами, дозволенными законом. Владение незаконное различалось по происхождению: а) подложное – когда оно основано на подложном акте или на ином обмане, если владелец, зная о подлож- ности акта, предъявил его или воспользовался им; б) насильственное – такое владение, началом которого являлось отнятие или захват имущества, соединенный с каким-либо насильственным действием против прежнего хозяина или владельца; в) самовольное – владение, когда кто-либо вопреки закону, хотя и без насилия, владеет или пользуется чужим имуществом.
Закон не раскрывал сущность такой категории, как «пользование». Отдел VI (разд. II, кн. II, ч. 1, т. X) озаглавлен «О праве владения и пользования, отдельном от права собственности», но об отдельном пользовании говорилось только применительно к движимому имуществу. Сопоставляя статьи закона, А.М. Гуляев определял пользование как осуществление экономического назначения имущества в своих интересах без притязания лица рассматривать это имущество как свое 12.
Поскольку в законодательстве пользование не отделялось от владения (предполагалось следствием владения), оно также могло быть законным и незаконным, добросовестным и недобросовестным.
Термин «распоряжение» изначально получил однозначное определение и в российской юридической науке, и в законодательстве: распоряжаться имуществом значит определять его юридическую судьбу.
Определить судьбу имущества может прежде всего собственник. Но по закону или по сделке это право может принадлежать и не собственнику. Основные положения Свода Законов Гражданских дословно звучали так: «Право распоряжения не иначе может отделиться от права собственности, как или по доверенности, данной от владельца другому, или по закону, когда имущество подвергается запрещению в свершении купчих и закладных крепостей, или по секвестру в его управлении, или опеке»13. Таким образом, распоряжение рассматривалось и как один из элементов содержания субъективного права собственности, и как правомочие, которое может быть отделено от права собственности.
Д. Локк и Гегель одни из первых попытались изменить взгляды на собственность. Д. Локк отделил первичное владение от собственности и определил собственность как взаимодействие людей. Однако это взаимодействие необходимо для обособления от других субъектов, для «установления границы своих территорий» и утверждения собственности «путем договора и соглашения»14.
Гегель писал: «Владение и собственность – это два различных определения. Отнюдь не всегда владение и собственность связаны. Можно иметь собственность и в то же время не владеть ею...»15.
К. Маркс отмечал, что для любого кодекса всегда остается простой случайностью взаимодействие собственников, заключение ими договора 16.
Основное же внимание К. Маркс уделял критике буржуазных теорий собственности и отмечал, что отношения собственности нельзя рассматривать как отношения человека к вещи. Это есть отношения людей по поводу их отношения к вещам 17.
Однако если речь идет о праве собственности в объективном смысле, то есть как о правовом институте, то его составляют, как известно, нормы права, регулирующие общественные отношения собственности, которые имеют имущественный, а иначе говоря, экономический характер. Содержанием же субъективного права собственности являются правомочия собственника, предметом которых тоже является имущество, а потому правоотношение собственности тоже является имущественным (экономическим) отношением.
Во французском Гражданском кодексе от 21 марта 1804 года правомочия пользования и распоряжения прямо закреплены. В ст. 544 сказано: «Собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом...». О владении упоминается лишь в названии третьей главы Кодекса: «Об имуществах в отношении к тем, кто ими владеет». А в отношении содержания субъективного права собственности кроме права пользования и права распоряжения выделено право присоединения, включающее в себя право на плоды и доходы и на принадлежности к вещи 18.
Леон Жюллио де ла Морандьер так комментировал вышеприведенную норму: «Собственник вправе осуществлять пользование (usus) вещью, пользоваться или не пользоваться ею; пользоваться ею для собственного удовольствия или эксплуатируя ее в экономических целях; он может пользоваться вещью, извлекая из нее и присваивая себе плоды и произведения вещи... Эти правомочия могут осуществляться путем материального воздействия на вещь, материального пользования ею, извлечения материальных плодов, путем физического уничтожения вещи. В их число включено и право совершать в отношении вещи любые юридические сделки, как направленные на обеспечение сохранности вещи (например, договор страхования), так и сделки, в которых выражается управление вещью, а также распорядительные сделки, при помощи которых собственник отчуждает свою вещь; эти сделки совершаются либо между живыми (продажа, товарищество, дарение...), либо на случай смерти (завещание)»19.
В параграфе 903 германского Гражданского уложения от 18 августа 1896 года гово- рится, что «собственник вещи может, если тому не препятствует закон или права третьих лиц, распоряжаться вещью по своему усмотрению и устранять любое вмешательство». Владению посвящен специальный раздел. Среди прочих выделяемых в нем видов владения названо «самостоятельное владение», которое принадлежит собственнику (параграф 872) 20.
При правовом оформлении отношений собственности важно представлять многообразие и неоднозначность существующих юридических моделей 21. Имеются в виду континентальная и англосаксонская системы права.
Право собственности в англосаксонской правовой системе по своему содержанию является совокупностью правомочий вещного и обязательственного характера.
В названной системе права, как уже упоминалось, не различаются понятия собственности и права собственности. Определение собственности (а значит, и права собственности) базируется на совокупности принадлежащих собственнику правомочий, но последних значительно больше, чем в содержании континентального субъективного права собственности. Все вещные права здесь признаются разновидностями права собственности.
Право собственности, выражаемое термином «property», может означать любое право имущественного содержания, в том числе и такие права, как авторское и патентное, не носящие исключительно имущественного характера. В этом смысле собственность называется «генеральной» (general property). В противовес ей выделяется «специальная собственность» (special property), включающая в себя права владения и пользования чужими вещами с ограниченным содержанием.
Как известно, любое вещное право заключает в себе возможность юридического господства над вещью, но это господство может иметь различное содержание, вследствие чего и вещные права дифференцируются.
Право собственности – это основное вещное право. Оно предоставляет собственнику наиболее полное господство над вещью. Однако право собственности как полная власть над вещью существует только в прин- ципе, так как на него в большей или меньшей степени всегда налагались определенные ограничения (в интересах общества, государства и т. д.).
В странах континентальной Европы нормы права собственности были объединены в самостоятельные правовые институты. В странах англо-американской системы права подобных институтов не создавалось. Но там сложилось представление о том, что право собственности есть «связка субъективных прав». Поэтому в указанных странах для выражения содержания конкретного вида права собственности стало использоваться перечисление прав субъекта этого права. Различные авторы предлагали от 2 до 10 и более правомочий, которыми может быть наделен субъект права собственности.
Например, в Англии первоначально правомочия собственника земли были очень широки. Он считался собственником своего участка, а также всего, что находится под ним и над ним до бесконечности. Практически это означает, что собственник участка являлся собственником недр и всего воздушного пространства над участком. Поэтому, например, установление воздушных линий для пассажирских перевозок впоследствии было разрешено специальным актом парламента, поскольку по общему праву любой собственник мог бы запретить движение самолетов над своим участком 22.
В конце XIX – начале XX века, когда окончательно складывается монополистический капитализм, в праве собственности происходят значительные изменения. Нарастают процессы концентрации и специализации производства. Растет число форм права собственности.
Одновременно меняется и теоретическое осмысление права собственности в буржуазной правовой науке. Некоторые ученые [Дж. Бартлетт (Англия), М. Ориу, Л. Дюги (Франция), С. Романо (Италия), Р. Иеринг, О. Гирке, А. Менгер (Германия) и др.] признают многие традиционные правовые представления не соответствующими требованиям новой эпохи. Все чаще в литературе подчеркивается недопустимость злоупотребления правом собственности, отмечается наличие в праве собственности не только прав, но и обязанностей, причем последние ставятся на первое место, и, прежде всего, выделяется обязанность использовать объекты права собственности в соответствии с общественными интересами.
Итак, весьма разнообразными были изменения в буржуазном праве собственности и в учении о нем в XIX – начале XX века. Растет число ограничений права собственности вследствие усиления государственного регулирования экономики, национализации некоторых банков, убыточных предприятий и даже целых отраслей промышленности, земельных участков для градостроительства, землеустройства, размещения военных баз и т. д. А также стал осуществляться переход от полного и предварительного возмещения убытков, причиняемых такими ограничениями и изъятиями, к «соответствующим обязательствам», «справедливому выкупу». Все чаще весьма дорогие предприятия создаются на государственные средства. Государство становится все более крупным собственником.
Список литературы Формирование и развитие юридической конструкции субъективного права собственности
- Советское гражданское право/Под ред. Ю.Х. Калмыкова, В.А. Тархова. Т. 1. Саратов, 1991. С. 231;
- Скловский К И. К проблеме права собственности//Известия вузов. Правоведение. 1990. № 1. С. 43.
- Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. Ставрополь, 1994. С. 46.
- Медведев С.Н. Вестготское законодательство V-VI веков. Ставрополь, 1992. С. 84.
- Смирин В.М. Римская familia и представления римлян о собственности//Быт и античность в истории. М., 1988. С. 26;
- Савельев В.А. Право собственности в римской классической юриспруденции//Советское государство и право. 1987. № 12. С. 122-124.
- Савельев В.А. Юридическая концепция собственности в Древнем Риме и современность//Советское государство и право. 1990. № 8. С. 140.
- Скловский К.И. Собственность в гражданском праве.
- Рождение французской буржуазной политико-правовой системы/Отв. ред. А.И. Королев, К.Е. Ливанцев. Л., 1985. С. 88.
- Ефремова Н.Н. Судебная защита права собственности в России XVIII в.//Собственность: право и свобода: Сб. ст. М, 1992. С. 44.
- Гуляев А.М. Русское гражданское право. СПб., 1913. С. 156.
- Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период. М., 1990. С. 261-266, 357-385, 364-367.
- Русская философия собственности. XVIII-XX вв. М., 1993. С. 67.
- Гуляев А.М. Указ. соч. С. 167.
- Статья 542 Свода Законов Гражданских.
- Философская пропедевтика. Работы разных лет. Т. 2. М., 1973. С. 40-41.
- Маркс К, Энгельс Ф. Соч. Т. 3. 2-е изд. С. 64.
- Сорвина Г. Буржуазные и реформистские концепции социалистической собственности//Экономические науки. 1969. № 5. С. 53-62;
- Кулиш А. Структура и эволюция капиталистической собственности//Экономические науки. 1972. № 7. С. 71-79;
- Лоскутов В. К вопросу о месте собственности в системе производственных отношений социализма//Экономические науки. 1973. № 10. С. 24-28;
- Мозолин В.П. Право государственной (общенародной) собственности в условиях совершенствования социализма//Советское государство и право. 1987. № 5. С. 37-45.
- Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сборник нормативных актов: гражданские и торговые кодексы. М., 1986. С. 154.
- Гражданское право Франции. Т. 2. М., 1960. С. 35.
- Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран... С. 33.
- Суханов Е. А. Проблемы права собственности при переходе к рыночной экономике. М., 1994. С. 38.
- Архангельская А. Право собственности в англосаксонской системе права//Право и жизнь. 1991. № 11. С. 105.