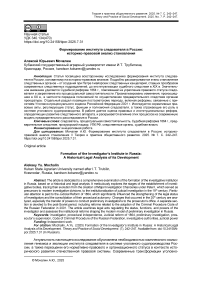Формирование института следователя в России: историко-правовой анализ становления
Автор: Мочалин А.Ю.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена всестороннему исследованию формирования института следователя в России, основанному на историко-правовом анализе. Подробно рассматриваются этапы становления следственных органов - от создания при Петре I майорских следственных канцелярий, ставших прообразом современных следственных подразделений, до институализации судебного следствия в XIX в. Значительное внимание уделяется Судебной реформе 1864 г., повлиявшей на укрепление правового статуса следователя и закрепление его процессуальной самостоятельности. Проанализированы изменения, произошедшие в XX в., в частности передача полномочий по осуществлению предварительного следствия органам прокуратуры. Отдельный раздел посвящен постсоветскому периоду, включая реформы, связанные с принятием Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 2001 г. Исследуются нормативные правовые акты, регулирующие статус, функции и полномочия следователя, а также отражающие его роль в системе уголовного судопроизводства. В работе дается оценка правовых и институциональных реформ, определяющих развитие следственного аппарата, и раскрывается влияние этих процессов на современную модель предварительного расследования в России.
Следователь, процессуальная самостоятельность, судебная реформа 1864 г, предварительное следствие, прокурорский надзор, упк рф, следственные органы, судебная власть
Короткий адрес: https://sciup.org/149148957
IDR: 149148957 | УДК: 340.134(470) | DOI: 10.24158/tipor.2025.7.31
Текст научной статьи Формирование института следователя в России: историко-правовой анализ становления
процессуального законодательства, изменения в соотношении полномочий следственных органов и прокуратуры, а также институциональное укрепление Следственного комитета Российской Федерации обусловливают важность обращения к истокам правового регулирования следственной деятельности.
Историко-правовой анализ формирования института следователя позволяет выявить закономерности развития правовых конструкций, регламентирующих досудебную деятельность, а также проследить институциональные изменения, связанные с переходом от инквизиционной модели к современным принципам уголовного процесса. Установление и осмысление этих закономерностей представляет собой важный этап в разработке теоретических основ процессуальной автономии следователя как самостоятельного участника уголовного судопроизводства.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения его результатов для повышения эффективности современной модели уголовного судопроизводства, например в части нормативного закрепления и реализации принципа процессуальной самостоятельности следователя. Историко-правовой анализ становления института следователя в России позволяет выявить объективные закономерности и факторы, повлиявшие на институциональное оформление следственных органов, а также определить устойчивые правовые и организационные тенденции, имеющие прикладное значение для правовой политики в сфере уголовного преследования.
Одним из ключевых аспектов уголовно-процессуального регулирования в Российской Федерации является формирование теоретико-правовой парадигмы автономии процессуального статуса следователя. Достижение данной цели немыслимо без комплексного анализа накопленного отечественной правовой наукой историко-юридического наследия, а также без опоры на фундаментальные национальные правоприменительные устои.
До мероприятий в судебно-правовой сфере, осуществленных в 1861–1864 гг., административно-бюрократический аппарат Российской империи не располагал специализированной институцией, обладающей четко выраженной юрисдикцией и функциональной автономией в области осуществления уголовно-юридического дознания1. Ввиду этого в обозначенный исторический период отсутствовала регламентированная правовая конструкция процессуального субъекта, наделенного следственными полномочиями. Процесс эволюции национальных органов предварительного расследования уходит корнями в первую четверть XVIII столетия и детерминирован реформаторскими инициативами монарха-новатора Петра I, в рамках которых были учреждены так называемых майорские следственные департаменты, фигурирующие в специализированных источниках под наименованием канцелярий разыскных процедур2. Однако потребность в осуществлении досудебного расследования по определенным видам правонарушений возникла задолго до периода правления Петра I. Уже в Русской Правде содержались предписания, указывающие на необходимость проведения разыскных мероприятий в отношении правонарушителя, что предполагало совершение комплекса предварительных действий, предшествующих его передаче княжеской власти.
В последующие исторические эпохи функции по реализации досудебного расследования вменялись различным административно-правовым субъектам, включая губных старост, сыскных служителей, представителей полицейского аппарата, членов специализированных комиссий, должностных лиц прокуратуры и иных правоприменительных структур (Троцина, 1851). Однако осуществление расследования данными субъектами носило эпизодический, неструктурированный характер, мероприятия проводились в условиях секретности и зачастую сопровождались применением инквизиционных методов воздействия, в том числе пыток. По своей сущности данные процедуры представляли собой не что иное, как прототип современных оперативно-разыскных мероприятий, направленных исключительно на установление личности правонарушителя, без проведения комплексного процессуального анализа обстоятельств преступления3.
Представляется, что ошибочны попытки детерминировать конкретный хронологический рубеж, фиксирующий вектор формирования легального статуса должностного лица, уполномоченного на осуществление расследовательских функций, поскольку это не являлось следствием целенаправленной активности единоличного государственного субъекта, а представляло собой закономерную детерминацию поступательного прогресса социально-юридических механизмов в плоскости уголовно-процессуального регулирования. Аналогично тому как возникновение технологически совершенного сверхскоростного транспортного аппарата было бы немыслимо без фундаментальной разработки первичного средства передвижения – колеса, так и становление процессуальной фигуры следователя как самостоятельного процессуального субъекта основывалась на осознании фундаментальной необходимости выявления и изобличения преступного элемента. Вследствие территориального расширения Российского государства и усложнения его управленческой структуры выполнение отдельных государственных функций, ранее осуществляемых в порядке временной административной регламентации, трансформировалось в институционализированную, систематизированную и стабильную профессиональную деятельность1.
Указом Александра II о выделении следственного направления из компетенции полиции, датированным 8 июня 1860 г.2, была нормативно закреплена юридическая модель института судебных следователей, в рамках которой в пределах каждого административно-территориального округа вводились специально учрежденные должности субъектов, функционально подведомственных центральному департаменту юстиции и наделенных исключительными дискреционными полномочиями на осуществление уголовно-юридических разыскных процедур в отношении преступных деяний, подлежащих рассмотрению судебными инстанциями. В последующем официальный процессуальный статус судебного инквизитора получил окончательное нормативное оформление в Уставе уголовного судопроизводства, утвержденном 20 ноября 1864 г. (далее – УУС). Хотя в предшествующих регламентационных источниках встречалась вербальная фиксация термина «следователь»3, его употребление не коррелировало с обозначением самостоятельного правоприменительного субъекта, целенаправленно предназначенного для выполнения функций досудебного расследования, о чем уже упоминалось.
В связи с этим представляется методологически неоправданным рассмотрение вопросов процессуальной автономии субъекта, выполнявшего досудебные функции, в период, предшествующий официальному нормативному оформлению процессуального института следователя (Огородов, 2016: 77).
Деятельность по установлению фактических обстоятельств правонарушений до начала судебного разбирательства в середине XIX столетия регулировалась законодательным сводом Российской империи4, а также совокупностью иных нормативных предписаний, детерминировавших процессуальный порядок осуществления уголовно-правового преследования5. В указанный период преобладала инквизиционная модель юрисдикционного производства, отличительной спецификой которой являлись строгая конфиденциальность разбирательств, документарный характер процессуальных действий, формализованное восприятие доказательственной базы и концентрация следственных и судебных полномочий в юрисдикции одного субъекта, что фактически аннулировало правовую защищенность фигурантов производства.
Согласно мнению Н.И. Стояновского, уголовно-следственная деятельность в дореформенный период представляла собой первоочередную и необходимую фазу уголовного правоприменения, направленную на детерминацию наличия преступного деяния, его юридико-фактической структуры, личности правонарушителя и степени его виновности6. В соответствии с положениями ст. 883 Свода законов7, полномочиями по осуществлению уголовно-розыскной функции обладали административные субъекты городских и земских полицейских ведомств, обозначаемые в официальной терминологии как следователи, чьей ключевой задачей являлось формирование доказательственной базы, позволяющей судебному органу выносить решение относительно квалификации деяния и виновности либо невиновности обвиняемого. Завершенное расследование подлежало передаче в Земский суд – административно-полицейскую инстанцию, которая либо самостоятельно разрешала дело, либо делегировала его рассмотрение в компетенцию судебного ведомства. Согласно предписаниям ст. 884 и 1144 Свода законов8, любые следственные материалы подлежали обязательному направлению в суд для проверки, даже при отсутствии объективно установленных признаков преступления и конкретного фигуранта обвинения.
В трудах Н.Н. Розина отмечается, что сословное деление общества, бюрократическая заторможенность, коррумпированность административного аппарата, репрессивный характер уголовного судопроизводства, инквизиционные методики и закрытый формат следственных действий приобрели институционализированный характер, провоцируя массовое недовольство гражданского общества. Также он подчеркивал, что осознание фундаментальной дисфункции судебной системы и ее ангажированности в обеспечении правосудия со временем породило правовую и общественно-политическую необходимость ее реформирования, что обусловило эскалацию дискуссии по данному вопросу на уровне государственных институтов1.
С принятием Устава уголовного судопроизводства в 1864 г. контроль за следственными действиями стали осуществлять прокуроры (ст. 278–287, 510–528 УУС). Они могли давать следователям обязательные указания, присутствовать при следственных мероприятиях, проверять материалы дела и направлять предписания по вопросам, связанным с преступлением. Кроме того, прокурорский надзор распространялся и на защиту прав обвиняемого, а следователь был обязан исполнять распоряжения прокурора в этой сфере.
22 ноября 1917 г. Совет народных комиссаров утвердил первый нормативно-правовой акт – Декрет о суде № 1, направленный на коренное реформирование системы юрисдикционных органов2. Данный акт ликвидировал существовавший ранее институт судебных следователей, упраздняя традиционные механизмы их процессуальной деятельности. Однако ключевые инструменты досудебного разбирательства в уголовном процессе сохранились, что свидетельствовало о преемственности ряда следственных процедур в новых реалиях советского уголовного судопроизводства.
На следующем этапе развития судебно-следственной системы, 4 февраля 1919 г. Революционный военный совет Республики утвердил нормативный акт – декрет «О революционных трибуналах Республики», регламентирующий функциональную юрисдикцию революционных трибу-налов3. В соответствии с его положениями полномочия по рассмотрению правонарушений, совершенных военнослужащими, были переданы специализированным военным судебным органам. Данный шаг способствовал унификации системы военного правосудия, а также институциональному разделению общегражданского и военного судопроизводства.
Знаковым этапом в трансформации следственных органов стало принятие 21 октября 1920 г. декрета ВЦИК «О народном суде РСФСР». Данный нормативный акт устранил коллективные формы предварительного расследования, которые ранее предполагали коллегиальное принятие решений в ходе следственных мероприятий (декретом ВЦИК от 16 апреля 1919 г. «О следственных комиссиях» закреплялось создание комиссий как коллегиальных органов, действовавших на начальном этапе становления советской системы правосудия) (Расчетов, Бутенко, 2017). Взамен был создан институт народных следователей – самостоятельных процессуальных субъектов, наделенных широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства. В их компетенцию входили возбуждение уголовных дел, проведение оперативно-разыскных мероприятий, инициирование и применение превентивных мер, включая содержание подозреваемых под стражей. Кроме того, народные следователи имели право передавать собранные материалы в судебные инстанции либо прекращать уголовное производство при отсутствии достаточных оснований для дальнейшего преследования (Огородов, 2016: 80).
Контроль за деятельностью следственных органов осуществляли народные суды, выполнявшие функции квазисудебного надзора. В случае процессуальных разногласий между следственными органами и судебной системой материалы дела могли быть возвращены для дополнительного расследования с указанием директив, обязательных для исполнения. Данный механизм обеспечивал институциональную взаимосвязь между следствием и судебной властью, создавая предпосылки для унификации правоприменительной практики.
Принципиально новая веха в развитии системы уголовного судопроизводства наступила 28 мая 1922 г. с принятием положения «О прокурорском надзоре»4. Этот акт коренным образом изменил правовой статус следственного аппарата, фактически ликвидировав его автономию и подчинив его деятельность прокуратуре. Последняя получила исключительное право санкционировать возбуждение уголовных дел, утверждать процессуальные решения о применении мер пресечения, осуществлять ревизию следственных дел и издавать обязательные для исполнения директивные предписания. Кроме того, в компетенцию прокуратуры вошли контроль над средствами связи подозреваемых, включая перлюстрацию почтово-телеграфной корреспонденции, а также утверждение решений о продлении сроков следствия и утверждения обвинительных заключений.
В целях устранения юрисдикционных разногласий между судебными органами и надзорными структурами в 1927 г. на пленарном заседании наркоматов Рабоче-крестьянской инспекции СССР и РСФСР было принято решение о пересмотре институциональной подчиненности следственного аппарата. В результате этой реформы следственные органы были административно включены в структуру прокуратуры, что обеспечило их интеграцию в единую систему прокурорского надзора.
Дальнейшее развитие нормативного регулирования в данной сфере произошло с принятием в 1958 г. законодательного акта «Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных рес-публик»1. Этот документ официально закрепил исключительные полномочия прокуратуры, органов внутренних дел и органов государственной безопасности в осуществлении досудебного расследования, что нашло отражение в ст. 28 данного нормативного акта. При этом в соответствии со ст. 30 следователь самостоятельно принимал процессуальные решения. Эти положения впоследствии были закреплены в ст. 127 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г., обеспечивая правовую преемственность принципов следственной деятельности.
Следователь, обладая расширенными дискреционными компетенциями, был уполномочен инициировать начало уголовного производства, консолидировать разрозненные дела в единое производство либо прекратить их рассмотрение, а также адресовать обязательные к исполнению указания и поручения органам дознания. Его постановления подлежали безусловному исполнению всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами.
Одновременно следователь обладал процессуальной возможностью возражать против указаний прокурора, касающихся принципиальных аспектов следствия. В случае разногласия с прокурорскими предписаниями он имел право представить уголовное дело вышестоящему прокурору, который либо аннулировал оспариваемое указание, либо делегировал производство другому следователю. Идентичный алгоритм распространялся на процессуальные взаимоотношения между следователем и начальником следственного отдела, осуществлявшим внутриведомственный контроль за ходом досудебного производства (ст. 127-1 УПК РСФСР).
Статья 211 УПК РСФСР закрепляла широкие надзорные функции прокуратуры, включая право проводить следственные мероприятия, санкционировать отдельные процессуальные действия, отменять постановления следователя и направлять ему обязательные предписания. Такой объем прокурорских полномочий вызывал критику среди специалистов. В.С. Шадрин отмечал, что прокурор, обладая возможностью вмешательства в любой этап расследования, фактически подчинял следователя своему влиянию и корректировал ход следственных действий (2000). Суд, в соответствии со ст. 221 УПК РСФСР, занимался лишь рассмотрением вопроса о передаче дела в судебное производство. В 1991 г. Верховным Советом РСФСР была принята Концепция судебной реформы, которая предусматривала создание единой следственной структуры и институциональное разделение функций расследования и надзора2.
Попытка формирования централизованной следственной юрисдикции была предпринята в 1993 г. посредством разработки нормативного акта «О Следственном комитете Российской Федерации». Указанный правовой документ, получивший одобрение обеих палат Федерального Собрания РФ, не прошел финальной стадии легитимизации, поскольку не был утвержден главой государства. Впоследствии разграничение процессуальных функций следствия и надзора стало возможным с вступлением в силу нового УПК РФ в 2001 г., что ознаменовало переход к иной модели уголовного судопроизводства. Тем не менее на начальном этапе реформирования наблюдалось снижение процессуальной самостоятельности следователя в пользу прокурорского надзора. Принятый 5 июня 2007 г. Федеральный закон № 87-ФЗ, дополнивший УПК РФ и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», существенно ограничил полномочия прокурора, перераспределив часть его функций в пользу нового субъекта уголовного процесса – руководителя следственного органа3.
Таким образом, историко-правовой анализ формирования института следователя в России позволил проследить эволюцию данной процессуальной фигуры от стихийной и неструктурированной следственной практики допетровской эпохи до нормативно закрепленного и институционально оформленного субъекта уголовного судопроизводства в современной правовой системе.
Исследование показало, что становление следователя как самостоятельного участника процесса не было детерминировано одномоментными законодательными актами, а отражало длительный и противоречивый процесс трансформации государственных и правовых институтов, обусловленный административными реформами, политическим контекстом и социальной необходимостью в профессионализации досудебного расследования.
Выделены ключевые этапы развития: от майорских канцелярий и разыскных учреждений XVIII в. до введения института судебного следователя в 1864 г., от его упразднения в послереволюционный период до восстановления процессуальной фигуры народного следователя в условиях советского правосудия и последующего подчинения следственных органов прокуратуре. Анализ подтвердил наличие преемственности в следственных функциях, несмотря на смену политических режимов и моделей уголовного судопроизводства. Особое внимание уделено нормативному разграничению полномочий следователя и прокурора, которое было окончательно институционализировано в рамках правовой реформы начала XXI в. и закреплено в Федеральном законе от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ.
Таким образом, генезис института следователя в России представляет собой яркий пример институционального развития в сфере уголовной юстиции, где историческая преемственность, правовая эволюция и современное законодательное закрепление сформировали комплексный и автономный механизм досудебного расследования, отвечающий требованиям справедливости, правовой определенности и процессуальной самостоятельности.