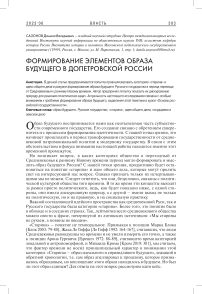Формирование элементов образа будущего в допетровской России
Автор: Сазонов Д.В.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 6, 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье предпринимается попытка проанализировать категорию «старина» и идею общего дела в ракурсе формирования образа будущего Русского государства в период перехода от Средневековья к раннему Новому времени. Автор предпринял попытку показать их дискурсивную природу для решения политических задач. Актуальность настоящего исследования связана с особым вниманием к проблеме формирования образа будущего, выделения этой тематики в курсе «Основы российской государственности».
Образ будущего, русское государство, «старина», идея общего дела, государево и земское дело
Короткий адрес: https://sciup.org/170200697
IDR: 170200697 | DOI: 10.31171/vlast.v31i6.9919
Текст научной статьи Формирование элементов образа будущего в допетровской России
О браз будущего воспринимается нами как неотъемлемая часть субъектности современного государства. Его создание связано с обретением суверенитета и с процессом формирования идентичности. С нашей точки зрения, это начинает происходить в период трансформации государственности от средневековой патримониальной политии к модерному государству. В связи с этим обстоятельством в фокусе внимания настоящей работы находится именно этот временной промежуток.
Но возникает вопрос, в каких категориях общество в переходный от Средневековья к раннему Новому времени период могло формировать и мыслить образ будущего России? С нашей точки зрения, продуктивно будет остановиться на понятии «старина» и идее общего дела, которые могут пролить свет на интересующий нас вопрос. Однако признать только их исчерпывающими мы не можем. Следует отметить, что они, безусловно, связаны с политической культурой общества того времени. В то же время эти концепты выходят за рамки просто политического, ведь, как будет показано ниже, с одной стороны, они имели дискурсивную природу, а с другой – имели выход не только на политическую, но и на правовую, и на социальную практику.
Важной составляющей идейного пространства как средневековой Руси, так и Русского государства была категория «старина». Более того, это понятие было в обиходе и в соседних странах. Так, лейтмотив всего средневекового общества можно свести к фразе, почерпнутой из литовских источников: «Мы старины не рухаем, а новины не вводим».
«Старина» – понятие не темпоральное. Примыкая к позиции Марка Блока [Блок 2003: 79-80], Жака Ле Гоффа [Ле Гофф 1992: 164-167], считавших, что люди Средневековья равнодушны ко времени и не умели измерять его точно, а также к позиции Арона Гуревича [Гуревич 1972: 88-89], считавшего время категорией локальной и антропоморфной, и Михаила Крома [Кром 2019: 301], мы считаем, что фактор времени не носил принципиальный характер в понимании этой категории. «Старина» – образ идеального и справедливого будущего, лежащий в обратной хронологии, т.е. сам образ апеллировал к прошлому, которое признавалось образцовым, но воплощение этого образа находилось в будущем. Но был ли этот образ единым? Для ответа на этот вопрос рассмотрим один кейс.
После присоединения Новгорода в 1478 г. великокняжеским новгородским наместникам предписывалось «всякие им дела судебные и земские правити по великого князя пошлинам и старинам». Из этого следует, что они обладали широким функционалом, основанным на великокняжеских «пошлинах» и «старинах». Заметим, что эти категории употребляются во множественном числе, что может свидетельствовать об отсутствии единого образа идеального устройства. Еще М.М. Кром, правда, на литовском материале, заметил, что «единой “старины” не существовало, было бесчисленное множество локальных и частных “старин”: всюду и у каждого – своя» [Кром 2019: 297]. В этом контексте необходимо дополнить аргументацию еще одним примером. Реорганизация власти в Новгороде коснулась ганзейских купцов, которые стали подсудными великокняжеским наместникам. В современной историографии есть мнение, что негативный образ Ивана III формировался у ганзейцев, потому что он рушил «старину» [Бессуднова 2015: 205], проводя политику ликвидации торговых привилегий и передав суд над ними своим наместникам. Отметим, что великий князь рушил новгородско-ганзейскую «старину» и вводил московскую «старину», которая конструировалась вокруг интересов Русского государства. Все это свидетельствует о множественности образов идеального.
Новгородская «старина» ликвидировалась: «а владыке Новгородскому, опричь своего святительского суда, ни посадником, ни тысяцким, ни всему Новугороду не вступатися ни во что же, ни вечю не быти, ни послов слати нам к ним, посолства правити кому ниоткуда приехав с иныя земли, то к ним все правити [ т.е. к наместникам. – Д.С .], а не владыке, ни к Новугороду»1. Заканчивается это административное переустройство Новгорода хрестоматийным эпизодом – вывозом вечевого колокола в Москву. Так отменялась новгородская «старина» и вводилась московская. Образ будущего формировавшегося Русского государства вытеснил альтернативный образ будущего Новгородской земли.
Приведем еще один пример трансфера «старины». Известно, что в конце XIV – начале XV в. Смоленск противостоял Великому княжеству Литовскому. В 1404 г. город был взят Витовтом, и он вошел в политическую орбиту другой страны2. Общество пыталось оказать сопротивление, и в 1440-х гг. горожане предприняли попытку добиться независимости от литовских властей3. Однако в конце века город был глубоко интегрирован в политическую систему Великого княжества литовского. Это проявилось в том, что Смоленск занял литовскую сторону в начавшейся порубежной войне. Однако после взятия города в 1514 г. московскими войсками смоляне просили Василия III «их пожа-ловати, держати вь их старине, как их держал князь великий Витофт и иные прежние государеве их»4. Горожане смогли добиться от него выдачи жалованной грамоты, которая повторяла положения выданного в 1513 г. привилея Сигизмунда I [Кром 2003: 138-139].
Данный казус можно объяснить двумя вещами. Во-первых, любые льготы и привилегии стразу же инкорпорировались в «старину». Во-вторых, произошла смена поколений. Люди, разделявшие и помнившие когда-то московскую
«старину», умерли естественным путем. Новое поколение жило в пространстве литовской «старины». Судя по всему, этот образ будущего больше коррелировал с их представлениями и настроениями, что и побудило их к военным действиям против некогда единой общности с центром в Москве. Несмотря на проигрыш и переход под юрисдикцию Русского государства, смоляне попытались перенести самое важное из литовской «старины» в московскую. Жалованная грамота Василия III является тому прямым доказательством. Однако спустя непродолжительное время с дарованными литовскими великими князьями льготами было покончено.
Следует отметить, что позднесредневековое общество обладало короткой памятью, поэтому изменения могли легко стать «стариной» [Кром 2019: 305]. По этой причине литовские власти во время масштабных преобразований «громче всего заявляли о своей приверженности “старине”» [Кром 2019: 292]. Не было исключением и Русское государство. Так, Стоглав 1551 г. содержит речь Ивана IV, которая актуальна для нашего проблемного поля: «Да благосло-вилися есми у вас тогдыже судебник исправити по старине и утвердити, чтобы суд был праведен и всякие дела непоколебимо во веки. И по вашему благословению судебник исправил и великие заповеди написал, чтобы то было прямо и бережно и суд бы был праведен и безпосулно во всяких делех»1. Исправить Судебник предписывалось в соответствии со «стариной». В этом контексте она вновь выступает как универсальный идеал, к которому необходимо стремиться. При этом подчеркивается, что здесь и сейчас необходимо провести это преобразование, довести его до уровня «старины» и более ничего не менять («утвердити, чтобы суд был праведен и всякие дела непоколебимо во веки»). С одной стороны, в этой ситуации речь идет об изменениях, но с другой – они объясняются ссылкой на «старину» как на нечто образцовое и не подлежащее изменению. Только такое стремление могло лечь в основу формирования образа будущего Русского государства.
Таким образом, необходимо подвести предварительные итоги. «Старина» – не темпоральная категория. Она представляет собой идеальный образ социальной реальности, темпорально удаленного, источник которого лежит в обратной хронологической перспективе. «Старина» – множественный образ, каждый социальный организм, обладающий субъектностью, конструирует свою «старину» и апеллирует именно к ней, не признавая иную «старину». Данная категория также использовалась в качестве дискурсивного инструмента легитимации нововведений. Понять, почему для построения настоящего и будущего такое значение играла «старина», – тема иного исследования.
После идейного кризиса рубежа XV–XVI вв. [Данилевский 2019: 136, 370371], связанного с тем, что эсхатологические ожидания так и не воплотились в реальность, и в условиях трансформации средневековой государственности в государство раннего Нового времени меняется и идейное пространство. Концепция «общего блага» была неотъемлемой чертой всех раннемодерных государств [Кром 2018: 209]. Уходящая корнями в учение Аристотеля об общем благе как высшей цели политической деятельности, она получила распространение в среде русских книжников XVI в. [Кром 2010: 581].
Одно из первых упоминаний этой идеи мы можем найти в самом начале XVI в. В 1502 г. великий князь Иван III направил дьяка Ивана Телешова к своему сыну князю Дмитрию, осаждавшему в то время Смоленск, с таким посла- нием: «И вы бы за тем дела не откладывали, уповая на Бога и живоначальную Троицу, и на пречистую Его Матерь, и на святых чудотворец, и на родительскую молитву, города бы есте Смоленска доставали и дело наше и земское делали, посмотря по делу, как вас Бог вразумит и как вам Бог поможет»1. В этом контексте М.М. Кром предполагает, что это словосочетание – калька с греческого «государственные и общественные дела» [Кром 2010: 581].
Интересный оборот содержит челобитная Ивана Яганова, написанная на имя Ивана IV около 1534 г.: «И яз, государь, ищучи государева дела и земсково, да з дмитровцы несколько своего животишка истерял… тобе, государю, служу и земле твоей добра хочу» [Кром 2000: 22-23]. Следует заметить, что идея общего дела сопряжена в данном случае со службой и государю, и обществу.
Выразительный пассаж содержится в Никоновской летописи 1538 г. Осуждая боярские распри в годы малолетства Ивана IV, летописец замечает: «И многие промеж их бяше вражды о корыстех и о племянех их, всяк своим печется, а не государьскым, ни земьскым»2. «Государево и земское» дело в этом контексте противопоставлено клановым и корыстным интересам бояр.
С середины XVI в. широкое распространение получает формула «дело государево и земское» в контексте военных компаний [Кром 2010: 582]. Таким образом, официальный нарратив определял войну как общий интерес государя, а в его лице – и государства, и «земли», т.е. общества.
Вероятно, что словосочетание «дело государево и земское» появилось в придворной бюрократической среде и означало высшие интересы государя и общества. К середине XVI в. это выражение получило более широкое распространение и стало летописным топосом. «Земские дела» в этот период стали упоминаться автономно от «государевых дел». Более того, в период учреждения опричнины эта автономность намного усиливается: «Государьство же свое Московское, воинство и суд, и управу, и всякие дела земские приказал ведати и делати бояром своим... а ратные каковы будут вести или земские великие дела, и бояром о тех делех приходити ко государю, и государь з бояры тем делом управу велит чинити»3. Что такое «великие земские дела»? Если первоначально интересующая нас формула была связана преимущественно с военными походами, то уже во второй половине XVI в. она стала обозначать все государственные дела в целом. Весьма органично вписывается формирование идеи «общего дела» в процесс становления соборной практики в Русском государстве [Кром 2010: 585].
Идеальная модель государственности, которую еще предстоит построить, лежит в плоскости «государевых и земских дел», чьи интересы тождественны. Именно такой порядок может обеспечить стабильность, а его разбалансировка приводит к политическому кризису и смуте. Можно предположить, что стремление к этому единству привело к формированию публичной политики, что является признаком раннемодерного государства.
Подведем некоторые итоги. Следует заметить, что «старина» – идеальный образ социальной реальности, темпорально удаленного, источник которого находится в обратной хронологической перспективе. Этот образ не универсален, ведь каждый социальный организм, обладающий субъектностью, кон- струирует свою «старину» и апеллирует именно к ней, не признавая иную «старину». Эта категория активно использовалась в качестве дискурсивного инструмента легитимации нововведений, и не только в Русском государстве. «Старина» – образ будущего с положительной коннотацией. В отличие от современного дискурсивного пространства, где образ будущего может быть как положительным, так и негативным, в период Средневековья и раннего Нового времени можно заметить, что он был оптимистичным, даже несмотря на то, что в идейном средневековом пространстве доминировали эсхатологические представления. В этом ключе следует заметить разницу нашего современного восприятия и понимания исторического: тогда конец Истории – это не погружение в небытие, а точка бифуркации, переход в некое новое состояние.
Можно обнаружить корреляцию с интересующей нас проблематикой и идей общего дела. «Дело государево и земское» тоже является дискурсивным инструментом легитимации политического процесса. Его основа базируется на представлении об идеальном государстве, в котором интересы политической элиты в лице государя и общества абсолютно совпадают. Только такое положение способно удержать страну от кризисов и смут.
Подводя итоги сказанному выше, следует заметить, что для рассматриваемого нами переходного периода характерна только первичная стадия конструирования образа будущего в нарративном формате. Идейное пространство начинало перестраиваться, но ни общество, ни государство не были готовы к осознанию возможности конструирования поливариативных образов будущего, к разработке инструментов для его централизованного управления.
Исследование выполнено в рамках темы «Образы будущего России: историческая проекция» (№123091200059-2) при финансовой поддержке ЭИСИ в ИНИОН РАН.
Список литературы Формирование элементов образа будущего в допетровской России
- Бессуднова М.Б. 2015. Россия и Ливония в конце XV века: истоки конфликта. М.: Квадрига. 448 с. EDN: VZNLTF
- Блок М. 2003. Феодальное общество. М.: Изд-во им. Сабашниковых. 504 с. EDN: QOSCIL
- Гуревич А.Я. 1972. Категории средневековой культуры. М.: Искусство. 318 с. EDN: SGTAIN
- Данилевский И.Н. 2019. Герменевтические основы изучения летописных текстов. Повесть временных лет. 2-е изд., перераб. и доп. СПб: Издательство Олега Абышко. 448 с.
- Кром М.М. 2000. Челобитная и "запись" Ивана Яганова. - Русский дипломатарий. Вып. 6. С. 17-24. EDN: ORLVLZ
- Кром М.М. 2003. Неизвестный привилей Сигизмунда I Смоленску (1513 год). - От Древней Руси к России Нового времени: К 70-летию Анны Леонидовны Хорошкевич: сборник статей. М.: Наука. С. 133-139. EDN: XMINWP
- Кром М.М. 2010. "Дело государево и земское": понятие общего блага в политическом дискурсе России XVI в. - Сословия, институты и государственная власть в России: средние века и раннее Новое время: сборник статей памяти академика Л.В. Черепнина. М.: Языки славянских культур. С. 581-585. EDN: KXFTMQ
- Кром М.М. 2018. Рождение государства: Московская Русь XV-XVI веков. М.: Новое литературное обозрение. 246 с. EDN: WSJKGR
- Кром М.М. 2019. "Старина" как категория средневекового менталитета (по материалам Великого княжеского Литовского XIV - начала XVII вв.). - Меж Русью и Литвой: Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV - первой половины XVI в. 3-е изд., испр. и доп. М.: Квадрига. С. 288-309.
- Ле Гофф. Ж. 1992. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс-Академия. 372 с.