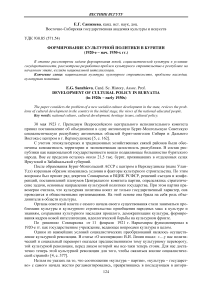Формирование культурной политики в Бурятии (1920-е - нач. 1930-х гг.)
Автор: Санжиева Е.Г.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (42), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены задачи формирования новой, социалистической культуры в условиях государственности, рассмотрена разработка проблем культурного строительства в республике на начальном этапе, взгляды национальной интеллигенции.
Национальная культура, культурное строительство, проблемы наследия, культурная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/142142677
IDR: 142142677 | УДК: 930.85
Текст научной статьи Формирование культурной политики в Бурятии (1920-е - нач. 1930-х гг.)
30 мая 1923 г. Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета принял постановление об объединении в одну автономную Бурят-Монгольскую Советскую социалистическую республику автономных областей бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока с центром в г. Верхнеудинске [5, с. 162].
С учетом этнокультурных и традиционных хозяйственных связей районов были обеспечены компактность территории и экономическая целостность республики. В состав республики как национальной государственности вошло подавляющее большинство бурятского народа. Вне ее пределов осталось около 21,5 тыс. бурят, проживавших в отдаленных селах Иркутской и Забайкальской губерний.
После образования Бурят-Монгольской АССР с центром в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) коренным образом изменились условия и факторы культурного строительства. По этим вопросам был принят ряд декретов Совнаркома и ВЦИК РСФСР, решений съездов и конференций, постановлений пленумов Центрального комитета партии, определялись стратегические задачи, основные направления культурной политики государства. При этом партия правомерно считала, что культурная политика носит не только государственный характер, она проводится и общественными организациями. На этой основе она брала на себя роль объединителя в области культуры.
Органы советской власти с самого начала своего существования стали заниматься проблемами культуры и культурного строительства: приобщения народных масс к культуре и знаниям, сохранения культурного наследия прошлого, демократизации культуры, формирования кадров новой интеллигенции, идеологической борьбы на культурном фронте.
По решению Совнаркома от 11 февраля 1921 г. Наркомпрос функционировал в 1920-е гг. как государственное учреждение, ведающее вопросами культуры в целом.
Одним из важнейших условий социалистических преобразований являлось осуществление культурной революции. В статье «О кооперации» В.И. Ленин писал: «…у нас политический и социальный переворот оказался предшественником тому культурному перевороту, той культурной революции, перед лицом которой мы все-таки теперь стоим. Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться вполне социалистической страной» [4, с. 377].
Нельзя не указать на то, что соотношения «культура партия», «культура государст во» с самого начала жестко регламентировались, превратившись в последующем в автори- тарную систему управления культурой - «партия - государство». Все партийные решения в области культуры стали директивами государства и непременно проводились в жизнь. На политику в области культуры решающее влияние оказывали разработанные В.И. Лениным принципы партийности и народности культуры.
Развивая мысли Маркса и Энгельса о классовом содержании культуры, о проявлении здесь противоположных тенденций, В.И. Ленин в 1913 г. сделал теоретическое обобщение: «Есть две нации в каждой современной нации... Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре». И далее: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) - притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей культуры». Он указывал: «...мы из каждой национальной культуры берем только ее демократические и социалистические элементы, берем их только и, безусловно, в противовес буржуазной культуре, буржуазному национализму каждой нации» [3, с. 120-121, 129].
Такое противопоставление двух культур в каждой национальной культуре имело значение для научного понимания их содержания. Однако, к сожалению, в практике деятельности партии и ее местных организаций оно часто превращалось в непримиримую борьбу внутри национальных культур, приводило к игнорированию или отрицанию культурного наследия народов, связанного, прежде всего, с религиозными воззрениями, к крайне негативным последствиям.
В среде бурятской интеллигенции шли споры и дискуссии по проблемам развития национальной культуры, отношения к культурному наследию, по вопросам привлечения представителей старой интеллигенции к культурному строительству. Не было еще ясного представления о том, как совместить развитие национальной культуры со строительством пролетарской культуры. Именно это побудило группу бурятских работников обратиться в 1925 г. с письмом к И.В. Сталину, в котором говорилось: «Убедительно просим дать разъяснение на следующие очень для нас серьезные и трудные вопросы. Конечная цель Коммунистической партии - единая общечеловеческая культура. Как мыслится переход через национальные культуры, развивающиеся в пределах отдельных наших автономных республик, к единой общечеловеческой культуре? Как должна происходить ассимиляция особенностей отдельных национальных культур (язык и т.д.) [6].
Концепцию культурно-национальной политики, программу культурно-национального строительства в Бурят-Монгольской АССР на перспективу обкому партии и правительству республики удалось разработать к лету 1926 г. На пленуме обкома ВКП(б), состоявшемся 23-25 августа 1926 г., был заслушан и обсужден доклад члена бюро обкома партии и председателя Совнаркома республики М.Н. Ербанова «О задачах культурно-национального строительства в Бурреспублике» [9].
Пленумом были утверждены тезисы по докладу М.Н. Ербанова «Культурно-национальное строительство БМАССР» [1]. Принципиально важные, программные положения этого документа сводятся к следующему.
Бурятия стоит перед фактом непосредственного строительства социализма, минуя капиталистическую стадию развития. Задача - найти наилучший способ (форму) перехода от отсталых форм экономического быта и культуры к социализму на основе учета конкретной исторической обстановки Бурятии; предстоит осуществить культурную революцию, поднять общий культурный уровень всего населения, добиться развития национальной культуры.
Очень важным являлось положение о том, что развитие национальной культуры в Бурятии - дело не одного десятка лет, а целого исторического периода, поскольку предстояло преодолеть трудности объективно-исторического характера.
В документе утверждалось, что культурное строительство должно развертываться, с одной стороны, путем развития национальной культуры (языка, литературы, письменности, искусства и проч.) на основе выявления творческой инициативы трудовой массы и широкой их самодеятельности, наряду с восприятием всех научных достижений у более культурных народов, а с другой стороны - посредством насаждения элементов общепролетарской социалистической культуры путем изучения и усвоения, главным образом, русского языка и литературы, распространения и внедрения в повседневной жизни культурной обстановки, начиная с пищевого режима и кончая требованиями гигиены и внешней формы общежития.
Малочисленность и недостаточная подготовка кадров культурного строительства, особенно руководящих работников, диктовали насущную необходимость проведения корениза-ции, т.е. выращивания активистов из самой низовой массы в каждом аймаке и хошуне, которые бы хорошо знали родной литературный язык и письменность. Подчеркивалась важность поощрения и собирания начинающих талантливых писателей, певцов, музыкантов и художников, организации массовых кружков самодеятельности и самообразования. В целях преодоления разбросанности территорий предлагалось провести новое районирование, создание административно-территориальных единиц (аймаков-районов, хошунов-волостей, сомонов-первичных единиц) с учетом национального состава населения.
В тезисах говорилось, что «работа по развитию национальной культуры будет обеспечена в основном лишь тогда, когда национализация школ (имеются в виду бурятские школы) будет осуществлена полностью, когда весь учительский персонал во всех наших школах будет достаточно подготовлен с точки зрения усвоения национальной культуры, когда весь улусный актив культурных работников станет носителем и распространителем для трудовой массы элементов национальной культуры» [12].
В документе были высоко оценены роль и значение Бурят-Монгольского ученого комитета (Буручкома) в разработке, изучении и систематизации всех вопросов по развитию культуры. Он был признан единственным учреждением, где концентрируется вся эта работа. Буручком (с 1922 г. - общественная научная организация, с декабря 1923 г. входил в состав Наркомпроса БМАССР и являлся его отделом, в 1929 г. преобразован в Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры, НИИК) должен был мобилизовать все культурные силы Бурятии. Возглавлял его работу нарком просвещения, известный бурятский ученый Б.Б. Барадин.
Тезисы были изданы отдельной брошюрой к культурно-национальному совещанию республики, состоявшемуся в сентябре 1926 г. [1].
Среди делегатов совещания были представители партийных, советских, профсоюзных организаций, учреждений науки, культуры и образования, известные деятели культуры, два представителя Монгольской Народной Республики. По многим вопросам шли оживленные дискуссии, высказывались различные точки зрения. Так, ученый-востоковед Г.Ц. Цыбиков в докладе «Монгольская письменность как орудие культурного строительства Бурятии» убеждал в том, что нужно сохранить монгольский письменный язык, представляющий собой почти единственный остаточный фактор, связующий монгольские народности в одно целое [7, с. 3]. Аналогичных взглядов по данному вопросу придерживался Б.Б. Барадин, утверждавший, что он и его единомышленники «не считают бурят-монголов за самостоятельную культурную единицу» и что «они мыслят в национально -языковом отношении как неотъемлемая частица монгольской нации» [10]. Эта точка зрения указанных докладов была встречена с одобрением и превалировала в языковом строительстве вплоть до 1930 г.
Писатель, общественный деятель П.Н. Данбинов (Солбонэ Туя) в докладе «Вопросы национально-художественного строительства и перспективы его развития» проводил мысль о том, что «национально-художественное искусство: архитектура, живопись, скульптура, орнамент и т.д., наиболее ярко выражено в буддийских дацанах, а поэтому особое самостоятельное изучение дацанского искусства и привлечение художников лам -творцов этого искусства к строительству нового общественно полезного искусства - это третья наша основная задача» [11].
В своем выступлении на совещании Б.Б. Барадин дал высокую оценку шаманской поэзии, считая ее одним из важных источников литературы. Совещание согласилось с этими положениями. Однако вскоре они были осуждены.
В 1929 начале 1930-х гг. в Бурятии шла острая дискуссия о путях формирования и развития бурятского искусства и литературы, об их содержании и форме, о культурном наследии. В определении политики по дальнейшему развертыванию культурной революции в этот период большое значение имели решения VII Областной партийной конференции (май 1930 г.), партийного совещания по культурному строительству (ноябрь 1930 г.).
В государственной культурной политике Бурят-Монгольской АССР, как и в других национальных республиках, проводилась линия на формирование социалистической по содержанию, национальной по форме культуры. Подчеркивалось, что все ценное, что создано веками демократической культурой народа, должно быть полностью использовано и развито. При этом указывалось, что устаревшие элементы национальной формы необходимо отбросить, заменить новыми элементами, приемами и методами художественного изображения действительности. Позиция отдельных представителей интеллигенции, недооценивавших некоторые элементы народной культуры, квалифицировалась как национальный нигилизм. С другой стороны, немало представителей бурятской интеллигенции считали возможным и даже необходимым использовать при создании национального искусства, в особенности театрального и изобразительного, отдельные элементы, средства, формы и методы буддийского искусства, как было сказано выше. Такой подход в последующем был признан буржуазнонационалистическим и отвергнут [2].
Важной положительной чертой культурной политики являлась ориентация деятелей литературы и искусства на творческое освоение и использование богатых и разнообразных художественных приемов и методов, жанров и видов русской, советской культуры, на формирование интернациональных черт социалистической культуры с самого начала ее становления.