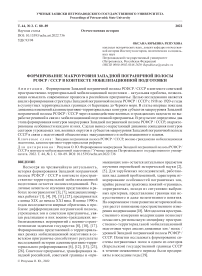Формирование макроуровня западной пограничной полосы РСФСР / СССР в контексте мобилизационной подготовки
Автор: Репухова Оксана Юрьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 2 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Формирование Западной пограничной полосы РСФСР / СССР в контексте советской пространственно-территориальной мобилизационной подготовки - актуальная проблема, позволяющая осмыслить современные процессы в российском приграничье. Целью исследования является анализ формирования структуры Западной пограничной полосы РСФСР / СССР с 1918 по 1920-е годы в сухопутных территориальных границах от Баренцева до Черного моря. В статье впервые показана динамика изменений административно-территориальных контуров субъектов макроуровня Западной пограничной полосы РСФСР / СССР через взаимодействие военных и гражданских ведомств по выработке решений в связи с мобилизационной подготовкой приграничья. В результате определены два этапа формирования контуров макроуровня Западной пограничной полосы РСФСР / СССР, охарактеризованы особенности каждого из них. Сделан вывод о нарастающей динамике совпадения контуров секторов угрожаемых зон, военных округов и субъектов макроуровня Западной пограничной полосы СССР в связи с подготовкой общесоюзных эвакуационного и мобилизационного планов.
Западная пограничная полоса рсфср / ссср, военно-гражданская мобилизационная подготовка, административно-территориальная реформа
Короткий адрес: https://sciup.org/147236251
IDR: 147236251 | УДК: 93/94 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.736
Текст научной статьи Формирование макроуровня западной пограничной полосы РСФСР / СССР в контексте мобилизационной подготовки
Несмотря на чрезвычайную актуальность, история формирования Западной пограничной полосы РСФСР / СССР в контексте пространственно-территориальной мобилизационной подготовки остается малоисследованной. Различные аспекты ее изучения представлены в работах по погранологии1 [3], [7], междисциплинарных работах2 [1], [4], [9], [11], [25], предпринятых с конца XIX до начала XXI века. В конце 1990-х годов исследователи впервые обратились к проблеме дифференциации пограничной полосы, угрожаемых зон в советском приграничье, увязав реализацию в них военно-гражданских мобилизационных мероприятий с военно-стратегическими задачами государства [8], [10], [17]. Формированию представлений о территориальных рамках мобилизационной подготовки в советском приграничье способствуют результаты исследований истории административно-территориального реформирования [6], [12], [13], [23], [26]. Советское приграничье, трансформация западной российской, советской границы и «при- мыкающих зон» остается актуальным предметом изучения европейской исторической науки [2], [5]. Для зарубежных исследователей, работающих над данной проблематикой, характерны игнорирование особенностей пограничных зон, крайне размытая трактовка понятий «границы», «приграничья», исходя из ситуативно выбранных критериев, представление границы как искусственного и даже нелегитимного понятия. На современном этапе развития исторической науки растет понимание пространственного измерения модернизации [18]. Методология пространственного измерения модернизации позволяет осмыслить региональную специфику пространственно-территориальной мобилизационной подготовки через анализ динамики зон / полос / уровней Западной пограничной полосы РСФСР / СССР. Попытки исследовать формирование системы пограничных полос в одном из секторов (Карельском) государственной границы СССР в течение межвоенного периода были предприняты в последние годы [19].
Изучение истории формирования Западной пограничной полосы РСФСР / СССР в контексте мобилизационной подготовки возможно на основе привлечения комплекса источников, как опубликованных, так и отложившихся в фондах центральных и региональных архивов Российской Федерации.
***
В пределах протяженной государственной границы Советского государства самого пристального внимания заслуживала ее западная сухопутная часть между Баренцевым и Черным морями, образовавшаяся в результате обретения самостоятельности Финляндией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией и подписания 3 марта 1918 года Брестского договора с Германией. Новые государства образовали «междумирье» [9: 14], «разделительный пояс» [11] ‒ пространство между Советской Россией и Европой. Это пространство характеризовалось нарастающим напряжением. Оно рассматривалось как потенциальный театр военных действий в межвоенный период и фактически таковым являлось в период Великой Отечественной войны. Примыкающие к западной государственной границе советские территории, непосредственно соприкасающиеся с «разделительным поясом», рассматривались как наиболее уязвимые для нападения потенциального противника и становились объектами усиленной мобилизационной подготовки.
Определение контуров приграничной территории началось в ходе Гражданской войны и иностранной интервенции, когда были сформированы первые пограничные округа (Петроградский, Западный и Украинский), призванные нести охрану пограничной полосы3. Этим было положено начало формирования микроуровня системы полос / зон пространственно-территориальной мобилизационной подготовки вдоль западной государственной границы Советского государства.
Негативный опыт советско-польской войны и напряженные отношения с пограничными государствами, образовавшимися после распада Российской империи, повлияли на характер политической концепции охраны государственной границы Советского государства, выработанной в 1920 году специальной комиссией во главе с Ф. Э. Дзержинским [7], и на суждения советского руководства о будущей войне как «комбинации элементов» войны антиимпериалистической (внешней) с гражданской, не исключающей «элементы повстанчества, партизанства» внутри страны. Такой подход ставил ряд вопросов мобилизационной подготовки. Одним из них был вопрос о понимании пределов приграничного тыла (полос). 24 ноября 1920 года Совет Труда и Обороны (СТО) РСФСР рассмотрел предложения комиссии Ф. Э. Дзержинского о реорганизации охраны границы и принял решение о «закрытии» государственной границы на всем ее протяжении. Вслед за этим в первой половине 1920-х годов был предпринят комплекс усилий по централизации управления пограничной охраной в руках органов государственной безопасности, введению новой структуры пограничной охраны и формированию системы пограничных полос (микро-, мезо- и макроуровня) [19].
Микроуровень пограничной полосы ‒ полоса, включающая населенные пункты, непосредственно выходящие на государственную границу, была дифференцирована Положением об охране границ СССР от 7 сентября 1923 года. В том же году было введено понятие «пограничные районы» ‒ административно-территориальные единицы (районы), часть внешних границ которых совпадала с государственной границей, или мезоуровень пограничной полосы. Совокупность «пограничных районов» в пределах отдельных субъектов пограничной полосы СССР в документах именовалась как «округа пограничной полосы», «пограничные округа», «погранполоса»4 и составляла фактический мезоуровень пограничной полосы5.
Субъекты, вошедшие в состав РСФСР, согласно Конституции 1918 года, и имевшие географический выход на государственную границу как приграничные территории, образовали макроуровень пограничной полосы. Макроуровень ‒ это крупные административно-территориальные единицы (субъекты) государства, имеющие выход к государственным границам. Состав и контуры западных пограничных субъектов РСФСР (с 1922 года ‒ СССР) также менялись, соответственно корректировались контуры макроуровня Западной пограничной полосы.
В зависимости от ширины пограничные полосы наслаивались друг на друга, что влекло изменения в действовавшем в их пределах режиме. Очевидно, что субъект макроуровня охватывал наиболее обширные территории, их площадь и протяженность вдоль государственной границы значительно различались6. Каждый уровень пограничной полосы был наделен конкретным функциональным назначением. Диапазон функций был широк – от ограничений пограничного режима до целенаправленной социально-экономической политики.
Большое влияние на формирование структуры и контуров Западной пограничной полосы РСФСР / СССР оказали решения, принятые партийными, военными, государственными органами в связи с проведением общегосударственной мобилизационной подготовки (МП). Если до конца 1923 года руководство Советской России ожидало перерастания социалистической революции в мировую, то на фоне неудавшейся революции в августе 1923 года в Германии, провалившегося таллинского восстания в декабре 1924 года [14] на первый план вышли вопросы реализации новой экономической политики и обеспечения безопасности государства в его новых границах. Дефицит государственного бюджета, масштаб обороняемой приграничной территории, опыт военных действий 1914‒1918 годов, показавших важность объединения воюющей страны в единый лагерь, привели советское военно-политическое руководство к необходимости проработки системы МП. В ноябре 1924 года решением пленума Революционного военного совета (РВС) СССР началось перераспределение функций по МП между гражданским и военным наркоматами. Было положено начало привлечения к делу обороны страны всего государственного аппарата7. С 1924 года впервые в СССР начала складываться военногражданская структура управления общегосударственной МП [20: 18]. В 1925 году в составе СТО при Совете Народных Комиссаров (СНК) СССР на правах его постоянной комиссии были образованы Распорядительные заседания (РЗ СТО СССР), которые от имени СТО принимали решения по МП страны. Подготовительную проработку мобилизационных вопросов осуществляла Межведомственная мобилизационная комиссия (ММК) под председательством начальника Штаба РККА. Комиссия разрабатывала сводные МП страны (планы перехода народного хозяйства на положение военного времени) в соответствии с основными общими планами подготовки к войне, которые она получала от РВС [21]. РВС по линии Штаба РККА был ответственен, помимо прочего, за определение угрожаемых неприятелем районов, составление эвакуационного плана (ЭП) вывоза людей и имущества из них8. Контроль за реализацией ЭП, а затем и различных направлений МП осуществляли органы государственной безопасности.
В ходе организации и проведения такой работы принципиальное значение имело определение территорий, в пределах которых предполагалось проводить МП. На первый план выходила проблема корреляции контуров границ административно-территориальных единиц (макроуровня пограничной полосы) и угрожаемых зон в Западной пограничной полосе. В ее решение были вовлечены наркоматы и ведомства всех направлений и уровней государства, осуществляющих МП, поскольку от этого зависело определение территориального объекта приложения мобилизационных усилий (военно-гражданское строительство дорог, лечебных учреждений, средств связи, предприятий, организация и проведение эвакуации, реализация программ повышения уровня жизни населения) и их финансирование.
По окончании советско-польской войны и в результате заключения в начале 1920-х годов договоров Советской России с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей и Норвегией, с одной стороны, изменились границы сопредельных с РСФСР на западе государств, с другой ‒ линия западной государственной границы РСФСР была смещена на восток. В начале 1920-х годов она включала советско-норвежский, советско-финляндский, советско-эстонский, советско-литовский, советско-латвийский, советско-польский участки. По условиям заключенных договоров9 Россия несла территориальные потери в лимитрофной зоне. На северо-западной границе в результате уступок Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве территориальные потери России составили более 91 тыс. кв. км10.
По условиям Рижского мирного договора11 территории Западной Белоруссии площадью около 82 тыс. кв. км и Западной Украины площадью около 187 тыс. кв. км [16: 38] были переданы Польше. Восточная граница Польши проходила значительно восточнее «линии Керзона», захватывая дополнительно около 3400 кв. км в Полесье и на берегу Западной Двины. Общая площадь территориальных уступок Польше составила около 300 тыс. кв. км. Учитывая, что площадь Польши до 1914 года составляла около 106 350 кв. км12, то общие территориальные потери России с 1918 по 1921 год только на польском участке оказались не менее 406 350 кв. км.
В результате развала Российской империи, последствий Первой мировой, Гражданской войн, формирования РСФСР было утрачено почти 500 тыс. кв. км территории. Учитывая, что площадь территориальных потерь по периметру всей страны составила около 800 кв. км, то уступки на западной границе, которая от всей сухопутной границы занимала не более 23 %, равнялись 62 %. В относительно узком перешейке российского пограничья между Баренцевым и Черным морями произошел грандиозный территориальный разлом, имевший болезненные последствия для всех его участников.
Инерция разрушения устоявшихся границ в ходе Гражданской войны и интервенции пробилась и в глубину приграничных территорий России. Спор за влияние в лимитрофной зоне продолжался в ходе дипломатических переговоров по подписанию мирных договоров между РСФСР и сопредельными государствами на западной границе России. Правительство РСФСР стремилось создать правовую основу сохранения контроля над собственными приграничными территориями, формируя автономные административнотерриториальные единицы с титульной нацией или поддерживая образование республик вне состава РСФСР с дружественным, советским режимом. Так, в противовес стараниям Финляндии по созданию «буферного» государства на территории Карелии как части финляндского государства в будущем, в июне 1920 года был реализован проект образования Карельской Трудовой Коммуны (КТК) в составе РСФСР [10: 43‒46]. А 31 июля 1920 года, в результате контрнаступления РККА и освобождения от польской армии части шести поветов (уездов) Минской губернии, партийными и профсоюзными организациями Белоруссии была повторно провозглашена Советская Социалистическая Республика Беларусь (ССРБ). В Декларации о провозглашении независимой ССРБ подчеркивалось, что ее вооруженные силы подчинены единому командованию советских республик, в экономике начнется реализация единого с РСФСР хозяйственного плана13.
В противодействие центробежным силам в РСФСР начался процесс «собирания земель» [13: 220] – государственное строительство и административно-территориальное преобразование. С декабря 1919 года ВЦИК РСФСР начал разработку нового административно-территориального деления (АТД) республики14. Суть ее состояла в замене прежних небольших губерний, уездов и волостей на огромные области, округа, районы, сельсоветы [23]. Общие принципы нового АТД были разработаны в результате согласованной работы Административной комиссии во главе с М. Владимирским, созданной при ВЦИК РСФСР, и комиссии по проектированию территориального деления для создания территориально-милиционной системы, действовавшей при Народном комиссариате Военно-Морских Дел (НКВМ) РСФСР. В результа- те работы комиссий при формировании АТД учитывали как сугубо экономические (гражданские) условия (сосредоточенность промышленности, технических культур, расположение промышленно-распределительных пунктов, численность и национальный состав населения), так и условия, необходимые для организации эвакуации (направление и характер путей сообщения, соотношение между уровнем развития путей сообщения и плотностью населения)15. ВЦИК утвердил предложения комиссии М. Владимирского своим Постановлением от 20 марта 1921 года16. Переход к новому АТД планировалось осуществлять постепенно и поэтапно17. Но уже с февраля 1920 по март 1921 года были установлены границы и АТД семи автономных республик и областей (одной из первых ‒ Карельской Трудовой Коммуны), были утверждены проекты образования новых четырех губерний (одной из первых ‒ Олонецкой) и десяти уездов18. В июне 1921 года комиссия установила границы Мурманской губернии (из северо-западных частей Архангельской).
В результате первых шагов административно-территориальной реформы западный пограничный макроуровень РСФСР в 1921‒1922 годах включал в себя Архангельскую19, Мурманскую губернии20, Карельскую Трудовую Комму-ну21, Олонецкую22, Петроградскую23, Псковскую24, Витебскую25, Гомельскую26, Брянскую27, Кур-скую28, Воронежскую29, Донскую области30 и Крымскую Автономную Социалистическую Советскую Республику31.
В 1921‒1922 годах шел процесс становления административно-территориальных границ субъектов РСФСР: в 1921 году были образованы Мурманская губерния и Крымская АССР. После образования Мурманской губернии Архангельская губерния утратит свое пограничное положение. Из 12 субъектов макроуровня Западной пограничной полосы РСФСР в 1921‒1922 годах шесть граничили с советскими республиками (ССРБ и УССР). Фактически 50 % внешней Западной государственной границы РСФСР было вынесено на внешний белорусско-польский и украинско-польский рубеж. В то же время в советской пограничной политике формировалось стремление к максимальному контролю за относительно контролируемыми лимитрофными территориями. Нейтральным или малонадежным союзным государствам РСФСР предпочла включение стратегически важных территорий в состав СССР [17: 532].
С образованием СССР в декабре 1922 года РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР договорились, помимо других вопросов общей юрисдикции, о внешних границах. Макроуровень Западной пограничной полосы был преобразован, включив в себя Мурманскую губернию РСФСР32, Карельскую Трудовую Коммуну33, Петроградскую34, Псковскую35, Витебскую губернии РСФСР36, Крымскую АССР37, Белорусскую ССР38, Украинскую ССР39.
Если на первом этапе формирования Западной пограничной полосы в 1918‒1922 годах происходило восстановление государственной границы России, большевистское правительство создало и поддерживало государства с лояльным режимом в лимитрофной зоне (ССРБ, ЛСР, УСР), то с образованием СССР и включением части зон / государств-лимитрофов в состав союзного государства шел поиск оптимальных контуров административно-территориальной единицы для макрополосы СССР. С образованием СССР сократилось число субъектов макроуровня Западной пограничной полосы с 12 до 8. Произошло их укрупнение: уезды Олонецкой, Витебской губерний были переданы в состав соседних пограничных административно-территориальных единиц. Площадь АКССР, Псковской и Петроградской губерний РСФСР, ССРБ выросла. При этом решение Политбюро ЦК ВКП(б) о передаче части Гомельской губернии ССРБ в 1926 году было принято без учета позиций губернского руководства. Как и в ситуации 1919 года, когда Смоленская, Могилевская и Витебская губернии были переданы из ССРБ в состав Западной области РСФСР, без учета позиции белорусского руководства. Общая площадь макроуровня Западной пограничной полосы СССР составила около 1 003 684 кв. км, или 4,8 % территории Союза.
Начиная с 1922 года территория Западной пограничной полосы, сформированной в рамках СССР, решением военного ведомства была целиком отнесена к зоне угрожаемой нападением противника. Таким образом, площадь угрожаемой зоны Союза составляла 4,8 % территории страны. Это создавало недоразумения в распределении мобилизационных и эвакуационных усилий, поскольку в случае нападения противника, например, в Крымской АССР требовалось начать эвакуацию в Александровском уезде Мурманской губернии. Для оптимального распределения мобилизационных и эвакуационных усилий требовалось разделение Западной пограничной полосы на сектора, оборона которых осуществлялась бы исходя из непосредственных угроз (Северо-Западный, Западный, Украинский и Крымский)40.
В ходе военной реформы по приказу председателя ОГПУ № 122/44 от 25 февраля 1924 года субъекты Западной пограничной полосы СССР были разделены между четырьмя военными округами41. Ленинградскому военному округу (ЛВО) были подчинены части пограничной охраны Ленинградского, Псковского, Новгородского, Череповецкого, Мурманского губернских отделов и Карельской АССР42. ЛВО охватил те северо-западные территории, которые с 1922 по 1926 год РВС определял как СевероЗападный угрожаемый нападением противника сектор43. Западный военный округ (ЗВО) охватывал территорию ССРБ (Минск). Украинский военный округ (УВО) ‒ УССР (Винница, позже ‒ Харьков). Округ включил Волынскую, Подольскую, Одесскую губернские пограничные части. Пограничный округ Крыма был создан в январе 1925 года и переформирован в управление пограничной и внутренней охраны УНКВД Крымской АССР (Симферополь)44. Западный, Украинский военные округа и пограничный округ Крыма полностью совпали с внешними контурами административно-территориальных единиц макроуровня ССРБ, УССР, Крымской АССР. А на северо-западе СССР территория ЛВО в 1924 году фактически обозначила абрисы будущей Ленинградской области.
К 1924 году контуры секторов угрожаемой зоны, военных округов и субъектов макроуровня Западной пограничной полосы СССР совпали на 75 % (кроме территорий, входивших в ЛВО). Юрисдикция военных и гражданских ведомств пересекалась в пределах одних и тех же административно-территориальных единиц макроуровня. В условиях становления общегосударственной МП это создавало условия для согласованности действий между гражданскими и военными наркоматами и ведомствами.
Практическая реализация мобилизационных мероприятий ускорила уточнение границ угрожаемых территорий. Запросы по этому поводу поступали в Штаб РККА от вовлеченных в мобилизационную работу ведомств, требующих указать район потенциального ТВД для расчета людских и материальных ресурсов, необходимых для МП и ЭП45. Начав разработку первого общесоюзного эвакуационного плана в 1926 году (ЭП 1927 год), военное ведомство пришло к выводу о необходимости определения территорий, угрожаемых нападением противника, не по условным линиям, как раньше, а по границам соответствующих единиц административного деления [15: 66‒67]. Такой подход требовал изменения определения угрожаемой зоны, действовавшего с 1922 года, по которому к ней была отнесена целиком вся Западная пограничная полоса СССР.
В 1926 году командование РККА определило Западную угрожаемую зону СССР в составе Карельской АССР, г. Ленинграда с прилегающими районами, территорий западных областей РСФСР (Лужский уезд Ленинградской губернии, Псковская губерния), ССРБ, правобережной УССР и Крымской АССР46. В апреле 1927 года, исходя из степени опасности расположения на потенциальном театре военных действий, СТО СССР разделил Западную пограничную полосу СССР на угрожаемые секто-ра47: Северный, Белорусский, Украинский, Крымский. Постановлением РВС СССР от 13 июня 1928 года сектора Западной пограничной полосы СССР были разделены на 1-ю и 2-ю угрожаемые зоны по степени опасности вторжения со стороны потенциального противника48. Документы показывают, что деление на 1-ю и 2-ю угрожаемые зоны применялось уже в течение года между этими решениями в ходе разработки эвакуационного плана [22: 32].
Если границы Белорусского, Украинского, Крымского секторов угрожаемых зон совпали с административными границами макроуровня Западной пограничной полосы СССР49, то Северный сектор включил в себя обширную территорию Ленинградской, Псковской, Череповецкой, Новгородской, Северо-Двинской, Вологодской, Зырянской автономной области, Архангельской, Мурманской губерний и Автономную Карельскую ССР (АКССР)50. Эти территории, кроме АКССР, организованные с 1924 года под военным руководством Ленинградского военного округа, в ходе АТД были сконцентрированы в составе одной Ленинградской области.
В 1926 году развернулась подготовка крупномасштабного мероприятия по «районированию». Уже в апреле 1926 года границы округов в «самых грубых чертах» были намечены [24: 54‒55]. В мае 1927 года ВЦИК РСФСР принял постановление о создании Северо-Западного края с центром в Ленинграде. Из бывших губерний ‒ Ленинградской, Псковской, Новгородской, Череповецкой, Мурманской, определяемых с апреля 1927 года как 1-я угрожаемая зона Северного сектора Западной угрожаемой зоны СССР, была образована Ленинградская область в составе созданных девяти округов ‒ Ленинградского, Лужского, Псковского, Великолукского (два последних были образованы на территории бывшей Псковской губернии), Мурманского, Новгородского, Боровичевского, Череповецкого, Лодейнопольского. Новая обширная адми- нистративно-территориальная единица была фактически организована 1 августа 1927 года и получила название Ленинградской области. Мурманский округ являлся ее анклавом, отделенным от основной части области территорией Карельской АССР. Был сформирован новый субъект макроуровня Западной пограничной полосы СССР, контуры которого были совмещены с 1-й угрожаемой зоной Северного сектора Западной угрожаемой зоны СССР, как на этом и настаивали в РВС. Контуры секторов угрожаемой зоны, военных округов и субъектов макроуровня Западной пограничной полосы СССР совпали.
ВЫВОДЫ
В процессе формирования макроуровня Западной пограничной полосы РСФСР / СССР можно выделить условные этапы: с 1918 по декабрь 1921 года ‒ с момента образования РСФСР до образования СССР; с 1922 по 1927 год ‒ с момента образования СССР до начала формирования первого общесоюзного эвакуационного плана.
В ходе первого этапа потери на западной границе составили 62 % всех территорий, утраченных по периметру страны. Советское руководство противостояло проникновению инерции разрушения в глубину приграничных территорий РСФСР, формируя в западном пограничье административно-территориальные единицы макроуровня с титульной нацией или поддерживая образование республик с лояльным режимом вне состава РСФСР. С декабря 1919 года в РСФСР начался процесс «собирания земель» через административно-территориальные преобразования, принципы которого проходили согласование с военным ведомством.
На втором этапе с образованием СССР и включением части зон / государств-лимитрофов в состав союзного государства шел поиск оптимальных контуров административно-территориальной единицы Западной пограничной макрополосы СССР. Произошло сокращение и укрупнение ее субъектов. Практическая реализация решений по мобилизационной подготовке приграничных земель аккумулировала усилия военных и гражданских наркоматов и ведомств для формирования территориальных объектов, приемлемых для всех структур, вовлеченных в общегосударственную мобилизацию. Контуры секторов угрожаемой зоны, военных округов и субъектов макроуровня Западной пограничной полосы СССР фактически совпали, что создало условия для согласования действий военных и гражданских наркоматов и ведомств по реализации мобилизационной подготовки.
Список литературы Формирование макроуровня западной пограничной полосы РСФСР / СССР в контексте мобилизационной подготовки
- Аблаев Ю. М. Стратегические приоритеты и правовые нормы восстановления государственной границы на северо-западе СССР в предвоенные годы // Вестник гражданских инженеров. 2010. № 4 (25). С. 164-169.
- Барон Н . Власть и пространство. Автономная Карелия в Советском государстве, 1920-1939. М., 2011. 400 с.
- Боярский В. И. Основные этапы, противоречия и тенденции развития пограничной службы России (XIV-XX вв.) // Вестник границы России. 1996. № 5. С. 34-45.
- Гранберг А. Г. Межрегиональное экономическое сотрудничество сопредельных стран // Регионы в системе внешнеэкономических связей Российской Федерации: Материалы междунар. науч.-практ. конф. / Под общ. ред. С. Г. Горшенина. Оренбург, 1998. С. 30-41.
- Дюллен С. Уплотнение границ: К истокам советской политики. 1920-1940-е. М., 2019. 416 с.
- Елизаров С. А. Округа в системе административно-территориального деления Белорусской ССР (1935-1937 гг.) // История государства и права. 2011. № 17. С. 13-16.
- Ежуков Е. Л. Исторические концепции охраны границ Российского государства // Военно-исторический журнал. 2007. № 12 (572). С. 16-19.
- Иванов В. А. Псковские пограничные районы в 20-30-е годы: исторические уроки развития // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 1998. № 1. С. 88-114.
- Квициани Д. Д. Об использовании термина «лимитроф» в русскоязычной литературе 19201930-х гг., и его геополитическая трактовка в постперестроечный период // Инженерный вестник Дона. 2018. № 3. С. 1-24.
- Килин Ю. М. Карелия в политике Советского государства. 1920-1941. Петрозаводск, 1999. 275 с.
- Коэн С. Б. Бухарин: политическая биография, 1888-1938. М.; Минск, 1989. 570 с.
- Крымская АССР: 20-е-30-е годы. Киев, 1989. 17 с.
- Круглов В. Н. Формирование территориального устройства РСФСР: административные, экономические и национальные аспекты (1918-1992 гг.) // Труды института Российской истории РАН. 2015. № 13. С. 217-240.
- Кен О. Н., Рупасов А. И. Москва и страны Балтии: опыт взаимоотношений, 1917-1939 гг. // Страны Балтии и Россия: Общества и государства. М., 2002. С. 225-256.
- Мелия А. А. Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР (1921-1941 гг.). М., 2004. 351 с.
- Мельтюхов М. И. Советско-польские войны: Военно-полит. противостояние, 1918-1939 гг. М., 2001. 460 с.
- Нэх В. Ф. Проблема обеспечения военной безопасности западных рубежей страны в советской пограничной политике (1917-1941 гг.) // Безопасность Евразии. 2004. № 2. С. 517-532.
- Побережников И. В. Пространственные аспекты российской модернизации // Экономическая история. 2010. № 9. С. 18-26.
- Репухова О. Ю. Пространственно-территориальная мобилизационная подготовка в Карелии в 1920-1930-х годах. Петрозаводск, 2016. 85 с.
- Репухова О. Ю. Военно-гражданская мобилизационная подготовка в Карелии в 1920-1930-х годах. Петрозаводск, 2016. 86 с.
- Репухова О. Ю. Поиск оптимальной структуры управления общегосударственной «военизацией» в СССР в 1920-х гг. // Исторические чтения на Лубянке. Органы государственной безопасности России в годы реорганизаций и реформ в Х1Х-ХХ1 веках. М., 2020. С. 51-60.
- Репухова О. Ю. «Воевать будет не только армия, но и вся страна». Бронирование как инструмент резервирования кадрового потенциала Союза ССР на случай войны // Военно-исторический журнал. 2021. № 5. С. 29-34.
- Тархов С. А. Основные пространственные закономерности эволюции сетки административно-территориального деления России за 300 лет // Псковский регионологический журнал. 2019. Вып. 4 (40). С. 16-33.
- Филимонов А. В. Процесс «районирования» в Псковском крае (1918-1930 гг.) // Вестник Псковского государственного университета. 2009. № 9. С. 43-60.
- Хатунцев С. В. Лимитрофы - межцивилизационные пространства Старого и Нового света // Полис. 2011. № 2. С. 86-98.
- Шабельников В. И. Создание и функционирование областного территориального деления в Украине: исторический опыт и уроки (1932-1940 гг.) // Вестник Донецкого национального университета. Сер. Б: Гуманитарные науки. 2016. № 1. С. 100-107.